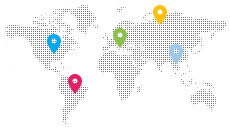Дитрих Бонхёффер — один из самых значительных и широко обсуждаемых протестантских теологов ХХ века, пастор, участник антигитлеровского сопротивления, был казнен 9 апреля 1945 года, за месяц до капитуляции нацистской Германии. Два последние года жизни он провел в заключении, откуда и писал друзьям и родным свои письма, которые теперь переводятся на множество языков и обсуждаются по всему миру. Выбор исповеднического пути следует из самой богословской мысли Бонхёффера; с другой стороны, такой опыт и питает его “новое богословие”.
Дитрих Бонхёффер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау (ныне Вроцлав) в семье профессора Карла Бонхёффера, известного психиатра. Он был шестым ребенком в семье, после него родилось еще двое. По материнской линии семья была связана с известными живописцами фон Калькройтами (смерти одного из графов фон Калькройт посвящен великий “Реквием” Р. М. Рильке). Семейное предание хранило память о какой-то отдаленной связи с Гете. Музыка (в письмах из тюрьмы Бонхёффер приводит по памяти нотные цитаты из Бетховена и Шютца), литература, живопись, естественные науки — всем этим богатым составом своей душевной жизни Бонхёффер обязан домашнему наследству. Его близкие друзья выросли в той же атмосфере. Творческая гуманитарная культура была для них пространством общения не меньше, чем собственно богословские темы. Культивированная человечность естественно принимает форму классической дружбы. О христианской ценности дружбы — и о христианской ценности свободной культуры — Бонхёффер не перестает размышлять в тюрьме: “У брака, труда, государства и Церкви имеются конкретные божественные мандаты, а как обстоят дела с культурой и образованием?.. Они относятся не к сфере повиновения, а к области свободы… Тот, кто пребывает в неведении относительно этой области свободы, может быть хорошим отцом, гражданином и тружеником, пожалуй, также и христианином, но будет ли он при этом полноценным человеком (а тем самым и христианином в полном объеме этого понятия), сомнительно. … Может быть, как мне сегодня кажется, именно понятие Церкви дает возможность прийти к осознанию сферы свободы (искусство, образование, дружба, игра)?”1.
Бонхёффер дорожил семейной традицией и даже задумывал (в тюрьме) написать нечто вроде “реабилитации бюргерства с позиции христианства”. Он хотел воздать должное сословию “граждан”, “горожан”, людей профессиональной, семейной и нравственной чести, сословию, преданному культуре, верящему в силу разума и классического гуманистического воспитания (характерно, что в заключении Бонхёффер не расставался с “Жизнеописаниями” Плутарха), уважающему в человеке талант, труд и личную самостоятельность, видящему личную жизнь в перспективе гражданского служения и исторической ответственности. У нас этот образ бюргерства (заслоненный гораздо более известным образом “буржуа”, хищного парвеню в духе бальзаковских героев) знаком разве что читателям немецкой прозы позапрошлого века — или тем, кто представляет, в какой мере такие фигуры, как Гете (чей томик, вместе с Библией, сопровождал Бонхёффера до дня казни) или Альберт Швейцер, — сыновья своего сословия. Бонхёффер видел, что дорогое ему бюргерство уже уходит, как принято говорить, с исторической сцены (как прежде него ушла аристократия) вместе со своим золотым веком — девятнадцатым, который Бонхёффер тоже хотел “реабилитировать”. С. С. Аверинцев (а его можно назвать в каком-то смысле наследником этого духа европейского бюргерства, так же как всю российскую “профессорскую” среду, о которой вспоминают выросшие в ней Андрей Белый, Цветаева:
Ваша — сутью и статью
И почтеньем к уму, —
Пастернак и которую у нас до сих пор как-то не отличили от “русской интеллигенции” вообще, явления другого характера) назвал современное “массовое общество” капитализмом без бюргерства, иначе говоря, без ведущего культурного сословия.
Однако нет ничего нелепее, чем представить Бонхёффера консерватором, ностальгирующим по утраченным устоям или “корням”. Бонхёффер принимает новые времена (радикальную новизну которых он чувствовал так сильно именно благодаря своей наследственной укорененности в истории) с их “беспочвенностью”, “безрелигиозностью”, “бунтом посредственности” и другими пугающими чертами как новую эпоху мировой истории, которую он всегда понимал не иначе как историю священную, то есть раскрытие воли Божией, своего рода развернутый во времени Апокалипсис (естественно, с акцентом на откровении, а не на “конце света” как финальной катастрофе, как это привыкло понимать сектантское сознание). Ту же идею “родной истории”, развертывающейся как Откровение и начатой Рождеством Христовым, мы встречаем у Пастернака (в романе “Доктор Живаго” ее развивает дядя героя, философ Веденяпин)2. В этой эпохе “взрослого человечества” он видит новую задачу для христианства и новую историческую эпоху Церкви.
Не будем здесь обсуждать, можно ли нынешнее состояние человечества в самом деле понимать как “взрослое” и “безрелигиозное” в бонхёфферовском смысле. Сам Бонхёффер с удивлением наблюдал в тюрьме, сколько “религиозности” в его товарищах по несчастью, сколько вполне архаичной веры в магию и вмешательство потусторонних сил по принципу Deus ex machina. Вероятно, тезис об имманентной религиозности человека, с которым спорил Бонхёффер, все-таки справедлив: “религиозность” принадлежит не “детству человечества”, а человеку вообще — как существу, в саму природу которого входят интуиция “другого мира” и насущная потребность связи с ним. Вопрос только в том, какого рода связь в каждом случае предполагается — и в каком отношении эта природная религиозность состоит с христианской верой. По разнообразным движениям современности типа New Age мы видим, что “религиозность” отнюдь не покидает человека и в век высоких технологий и как будто торжествующего материализма; она только принимает все более примитивные и вырожденные формы, лишенные древней поэзии и глубокой символики, известной традиционным религиям. Но еще существеннее, чем то, что эти новые формы “религиозности” в культурном отношении обычно порождают только вопиющий китч, эстетический и интеллектуальный, нечто другое. И это другое как раз объясняет их культурную бездарность. Дело в том, что из этих форм “религиозности” полностью уходит практика благодарения, жертвы, служения, без которых непредставимы все древние религии3 — и непредставима творческая культура. Уходит по существу и богословие как труд особого (молитвенного, созерцательного) узнавания о божественном, умственного приобщения к нему. В том “сверхъестественном”, с которым имеет дело новейшая “религиозность”, созерцать и познавать нечего, важно другое: как эффективно4 с ним обходиться. Эта “религиозность” сводится в конце концов к самому грубому утилитиризму, к откровенному желанию пользоваться “сверхъестественным” (иногда еще и к поискам магических и паранаучных техник для овладения его “силой”), а не любить его и служить ему. В этом смысле мы можем понять Бонхёффера, когда он говорит, что позиция “взрослого”, “безрелигиозного” человека благороднее и по существу ближе христианству. В этом смысле он говорит о том, что Христос освобождает человека от “религиозности”: от рабского, низкого и лукавого отношения с неведомым “иным миром”, с некоей непроясняемой Силой и Властью, от поиска земного благополучия любыми средствами. Вообще говоря, от идолопоклонства — то есть от того, что представлено как самый гнусный грех человека уже в Ветхом Завете (первая из Десяти Заповедей) и тем более — в Новом. За отказ совершить этот грех и проливалась кровь мучеников первых веков христианства. Бонхёффер в конце концов отдал жизнь за это же: за отказ от поклонения идолу “высшей германской расы” и его Вождю, которое требовалось от каждого лояльного гражданина Рейха. Никто, как обычно, и не требовал, чтобы жертва идолу (“божественному” императору — то есть государству, воплощенному в его персоне, как в Риме, или же “чистоте расы” и божественному Вождю — то есть опять же обожествленному государству, на этот раз национальному, а не имперскому, как в Германии, или же Партии, которой советский гражданин должен был быть “беззаветно предан”), чтобы эта жертва приносилась искренне, от всей души: достаточно было соблюсти внешние приличия, “формальные условности”. Но не сделать этого, то есть не согрешить идолопоклонством или не вступить в обоюдовыгодный сговор со злом и ложью, и значило для Бонхёффера спасти душу. О другом, потустороннем, спасении души он не думал.
Вновь вспомню С. С. Аверинцева. Комментируя последнюю фразу из Первого Соборного Послания апостола Иоанна: “Чадца, храните себе от треб идольских” — “Деточки, берегитесь служения идолам!” (1 Ин 5:21), Аверинцев спрашивал: почему именно таким увещеванием кончается это великое послание? Да потому, отвечал он, что всякий идол требует человеческих жертвоприношений. Тот, кто поклоняется идолу, приносит ему в жертву кровь других, неповинных людей. Дело не в том, что мы, принеся жертву идолу, от этого станем хуже (привычное индивидуалистское понимание греха и осквернения), а в том, что, делая это, мы выдаем кого-то другого: кто-то другой заплатит жизнью за наше малодушие. Это духовный закон, подобный физическому закону сохранения энергии. Иногда такое человеческое жертвоприношение идолу происходит косвенно и скрыто, так что идущий на компромисс не видит до поры (как гимназист в “Фальшивом купоне” Льва Толстого) или вообще никогда при своей жизни не увидит его последствий в судьбах других. Но в такие эпохи, как германский нацизм или сталинский “Большой террор”, принесение миллионов в жертву идолам совершается с полной наглядностью. Вот на это и не соглашается христианская совесть Бонхёффера. “К делу и со-страданию (разделению страдания) призывает христианина не столько собственный горький опыт, сколько мытарства братьев, за которых страдал Христос”. “Приобретение частицы сердечной широты Христа”, “жизнь для других” — движущий мотив его поступков и его мысли. Благородство христиан, “царского священства” — одна из его постоянных тем. Возрождение благородства, возрождение “качества” — одна из тех новых задач Церкви, которые Бонхёффер видит в наступившей эпохе. Душу спасают, спасая ее свободу и благородство. Принося в жертву правду и достоинство, спасают что-то другое: спасают свою шкуру, как ярко изображает это русский язык. Жуткий образ существования в пустых “спасенных шкурах” — вот путь тех, кто избрал историческую безответственность, настоящих “жертв истории”, как назвал их И. Бродский в своей Нобелевской речи.
Вернемся к биографии Бонхёффера. Сразу же после окончания гимназии избрав теологию, Бонхёффер получает прекрасное богословское образование в Германии и Риме, в 23 года становится доктором теологии и еще через год — пастором. После нескольких лет, проведенных в Испании, Англии и Америке, он преподает систематическую теологию в Берлинском университете (вплоть до запрещения в 1936 году), пишет и публикует целый ряд богословских трудов (на русский язык переведен один из них, “Nachfolge”, 1934, — “Хождение вслед”, которое можно перевести также “Идти за Ним”: название книги основано на евангельских словах: “Оставь все и иди за Мной”). Центральной его темой, вероятно, остаются церковь как общение святых (“Sanctorum Communio” из Апостольского Символа Веры, тема его первого, еще дипломного сочинения) и ее связь с ветхозаветной верой (“Молитвослов Библии” — “Das Gebetbuch der Bibel”, 1940).
Годы после прихода к власти национал-социализма придали этим темам особую остроту. Евангелическая церковь Германии оказалась в беспрецедентном положении. Отношения Церкви и земной власти (государства) в историческом христианстве изначально не мыслились как борьба — по известному евангельскому завету: “Богу Богово, а кесарю кесарево” (речь, как мы помним, шла об уплате налогов), — по апостольскому учению о том, что “всякая власть от Бога”, и в соответствии с постоянными увещеваниями апостолов хранить гражданскую лояльность, поскольку государство оправдано тем, что его назначение — защищать добрых людей от злодеев. Но что делать в том случае, когда власть сама прямо утверждает, что она против Бога, и требует отдавать ей вовсе не кесарево, а Богово, и при этом защищает никак не добрых людей от злодеев, а саму себя и собственное право на любое злодейство от своих подданых (как это делала коммунистическая власть у нас)? Или если она не говорит, что она против Бога вообще, но требует всего лишь, чтобы Бог был другим: скажем, германским? Это предложение было принято “коричневым” внутрицерковным движением “немецких христиан”. Победив на церковных выборах 1933 года, это движение провозгласило себя “Евангелической Церковью германской нации”, которая откроет миру “германского Христа деиудаизированной Церкви”5. “Деиудаизация” отнюдь не сводилась к “арийскому параграфу”. Она означала принятие особой, определенно антихристианской мифологии, в которой и Декалог, и Заповеди блаженства, и все евангельские смыслы были абсолютно неуместны. От христианской Церкви (пускай даже исключительно “германской нации”) требовалось одобрение государственного культа силы и насилия, ненависти и беспощадности к другим, самопревозношения и презрения к законности, воли к власти в планетарном масштабе, полного душевного и умственного закабаления подчиненных, “истинных немцев”, “настоящих патриотов”. “Верить, слушаться, побеждать”6 — вот чего хотел от человека этот невиданный вплоть до ХХ века Кесарь. Нужно ли говорить, что теперь, когда мы слышим о “русском Христе”, нам предлагается очень похожая, хотя и не во всех чертах совпадающая с “нордической”, но от этого не менее антихристианская мифология? То, что Бонхёффер называет “религиозностью”, вполне может примириться с инъекцией такого мифа в его скромное благочестие, но то, что Бонхёффер противопоставляет “религиозности”, — вера, иначе: жизнь по “правде Божией”, жизнь “пересотворенного человека”, никогда этого не примет.
Направление, взятое Генеральным Синодом, вызвало решительное сопротивление некоторых — лучших — теологов и пасторов, объединившихся в 1934 году в “правомочную Германскую евангелическую Церковь”, вошедшую в историю под именем “Исповедующей Церкви”. Спор понимался не просто как политический и нравственный, но как богословский, доктринальный (Карл Барт). С этим движением с самого начала был связан Д. Бонхёффер. С этого времени вплоть до ареста весной 1943 года он активно участвует в церковном сопротивлении, все глубже уходящем в подполье и все вернее ведущем к неизбежной развязке. “Мы вовсе не рисуем смерть в героических тонах, для этого слишком значительна и дорога нам жизнь”, — думает об этой развязке (до которой оставалось два года) Бонхёффер. И заключает: “Не внешние обстоятельства, а мы сами сделаем из смерти то, чем она может быть, — смерть по добровольному согласию”. О мотивах его выбора — сострадании и исторической ответственности7 — мы уже говорили.
Опыт жизни в условиях нового режима и то, что этот режим делает с человеческой личностью, Бонхёффер описал в небольшом тексте, написанном для друзей к Рождеству 1943 года, — “Десять лет спустя”. Этот очерк, я думаю, — одно из самых значительных свидетельств прошлого века. Оно написано участником событий, — но участником, у которого есть удивительная возможность увидеть все точнее, чем это получится у будущих историков и аналитиков, поскольку он много больше их заинтересован в правде. Особенно важным это свидетельство должно было бы стать для нас. Когда в позднее советское время (не меньше, чем шестьдесят, а то и семьдесят “лет спустя”) я читала этот изумительный бонхёфферовский анализ разложения социума и человека (чего стоит главка “Глупость”, открывающая не интеллектуальный, а нравственный и политический характер этой повальной глупости подрежимного населения!), я не могла не подумать: всё про нас! И до сих пор мне горько, что в нашей стране никто не попытался сделать подобного усилия понять происходящее в его самом общем и самом глубоком, не социальном, а духовном и человеческом измерении. Без такого понимания, как мы уже вполне убедились, выйти из этого состояния и отдельный человек, и социум не могут. Кстати, о выходе. И сейчас, читая последнюю главку, “Нужны ли мы еще?”, я думаю: это про нас и для нас:
“Мы были немыми свидетелями злых дел, мы прошли огонь и воду, изучили эзопов язык и освоили искусство притворяться, наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их правды и свободного слова, мы сломлены невыносимыми конфликтами, а может быть, просто стали циниками — нужны ли мы еще? Не гении, не циники, не человеконенавистники, не рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди”.
Эти слова, я думаю, обладают в нашей нынешней ситуации актуальностью листовки. Необходимость настоящей простоты, — не той, что хуже воровства, — простоты цельного существа, наделенного способностью различать дурное и хорошее и делать для себя недвусмысленный выбор.
Именно в силу насущности опыта Бонхёффера для нас я, не будучи ни в малейшей мере знатоком его творчества и тем более — протестантской теологии ХХ века, приняла приглашение говорить об этом на Международном Бонхёфферовском Конгрессе, который в июле этого года состоялся в Праге. Текст моего доклада публикуется ниже.
2
Двадцатый век, который вспоминают чем угодно, но только не этим, был великим веком христианства. Он был веком исповедников; в их опыте он стал, можно сказать, епифанией христианства, явлением того, что в христианстве христианское (не гностическое, не стоическое, не укрощенно и преобразованно языческое, не неосознанно ветхозаветное, не обыденно ритуальное, не клерикальное). Их свидетельства хранят для нас след этого опыта: опыта встречи с чем-то абсолютно новым и небывалым. “В дошедших до нас словах и обряде (здесь имеется в виду обряд крещения. — О. С.) мы угадываем нечто абсолютно новое, все преображающее…”8 Свидетели этого опыта, принадлежащие разным христианским конфессиям (а также остающиеся за пределами церковного христианства, как Симона Вейль), говорят о переживании того, чего с такой силой не чувствовали, вероятно, с катакомбных времен: о явлении христианства как невероятной новизны, рядом с которой все прочее выглядит безнадежно ветхим, о явлении его как начала, как будущего. О явлении христианства как дара жизни, рядом с которым все прочее кажется мертвенным, умирающим, умерщвляющим. О том, чем Любимый Ученик начинает свое Евангелие и Первое Послание: “о Слове Жизни: и Жизнь явилась, и мы видим и свидетельствуем…” (1 Ин 1:1–4)9.
В выступлении по поводу тысячелетия Крещения Руси (а это и было начало официальной реабилитации православия в Советском Союзе) С. С. Аверинцев говорил — от лица тех, кто обратился к вере во времена воинствующего атеизма: “Мы увидели христианство не как одну из религий, не как нравственную систему, путь к личной праведности, не как “святую традицию”, “веру отцов”, не как множество других вещей, которые привычно связывают с жизнечувствием церковного человека, — мы увидели его просто как жизнь; никакой другой жизни вокруг не было. Слова Христа: “Я же пришел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком” (Ин 10:10), — мы слышали не как обещание, а как прямую констатацию факта”. Аверинцев, великий историк культуры, закончил эту речь трезвым предупреждением: “И это время пройдет. Времена эсхатологического приближения сменяются другими. Но будем помнить, что мы это знали тверже, чем что-нибудь: что христианство — это жизнь. И тогда, когда о христианстве будут вновь думать иначе, мы этого не забудем”10.
Он угадал. Можно сказать, что теперь в России — в целом — о христианстве, о православии, о церкви думают иначе. Но мы помним: нам все это являлось как жизнь. И потому нам так ясен Бонхёффер.
Речь шла не о той “вечной жизни”, под которой привычно понимают некую “вторую, иную жизнь” (потустороннюю, посмертную или же “внутреннюю”), а о жизни здесь и сейчас, об избавлении от смерти, которая действует здесь и сейчас (а не о той, которая ждет нас где-то в конце земных дней). “Ни в чем другом жизни не было”, — сказал Аверинцев о поздних советских годах. “Все доступные альтернативы современности представлялись (нам) равно невыносимыми, чуждыми жизни, бессмысленными”, — пишет Бонхёффер в 1943 году о мире другого торжествующего тоталитаризма11. Итак, не “жизнь после жизни”, не “праведная жизнь”, — а просто и единственно: жизнь. Воздух. Пространство. В другом нечем дышать. Другое — теснота. Ср. у Бонхёффера: “Вера же есть нечто целостное, жизненный акт. Иисус призывает не к новой религии, а к жизни”12. И — к жизни в этом мире, каким он стал “спустя десять лет” (в Германии, а в России — спустя все семьдесят) после прихода к власти нечеловеческого зла, как будто спущенного с цепи.
Невыносимость “мира” и “мирского” — не новость для христианской души разных эпох. Взыскательные и взысканные души всегда это знали. Освенцимы и ГУЛАГи для такого знания избыточны. Любить правду Божию и одновременно принимать (или даже извинять) порядки “мира сего” невозможно. Но привычное решение здесь известно — это религиозное отречение, уход от мира (в разных формах, в том числе во “внутреннюю жизнь”). И прежде всего — уход от самого мирского в мире: от социальности, от участия в политической жизни, понятой как игра мирских страстей, поле действия “князя мира сего”. Но это значит: уход от истории — или, точнее, противостояние ее ходу. Преимущественно сдерживающая, охраняющая позиция Церкви веками представлялась совершенно естественной, — но ведь это христианство некогда пустило в ход все движение эпохи, которая именуется “нашей эрой” и ведет счет “от Рождества Христова”.
В катастрофах ХХ века с необычайной ясностью вспоминается другое: христианство не уводит из мира, а приводит в мир. “То, что не от мира сего, стремится в Евангелии стать чем-то для этого мира; и я понимаю это не в антропоцентрическом смысле либеральной, мистической, пиетистской, этической теологии, но в библейском смысле, явленном в сотворении мира и боговоплощении, в крестной смерти и воскресении Иисуса Христа”13.
Речь идет “просто” о жизни (а не о специальном “религиозном” роде жизни), — но это значит, о всей жизни, а не только о ее “религиозном участке”: о жизни в науке и творчестве, в браке и дружбе, о жизни внешней и внутренней, интеллектуальной и гражданской, интимной и публичной; о жизни, как говорит Бонхёффер, не только в слабости и неведении (когда обыкновенно и вспоминают о Боге), но и в силе и в знании; не только за пределами разума, но внутри его самой напряженной работы; не только на краях жизни, но в самом ее центре.
К этому открытию “просто жизни” Бонхёффер добавляет еще одно важнейшее прояснение. Речь идет к тому же “просто” о человеке (а не о человеке набожном, праведном и т. п.): “Христос творит в нас не какой-то тип человека, но просто человека”14. “Просто человека”, человека вполне одушевленного и живого, в нас в наличии нет. Его требуется творить. И когда это в действительности творится, возникает нечто необычайное: то, что и можно назвать человеком. И это, как в случае с “просто жизнью”, предполагает: речь идет обо всем человеке.
Так в советские годы мы имели возможность видеть, как верующие люди выглядели среди окружающих, — в точности оправдывая древние слова: словно ожившие люди среди статуй. Они отличались от других не тогда, когда соблюдали молитвенное правило и посты и посещали богослужения (этого другие, как правило, и не видели, это делалось часто тайком и от домашних): они отличались в каждом своем движении и взгляде. Они были совсем живыми. У них была другая мера вещей. Они были свободней — и потому несравненно умнее других: их не захватывала та эпидемическая глупость, которую замечательно анализировал Бонхёффер. В них не было тысячи предвзятостей и страхов, определявших существование других (в точности наоборот привычному: ведь именно “религиозные” люди для человека живого ума, типа Гете, представлялись — и, увы, справедливо — самим воплощением предвзятости, неполной искренности и узости). Наконец, в них была сила. Тысячелетие размышляя и напоминая человеку о его немощи и бренности, христианская культура слишком редко вспоминала о христианстве как о силе. Об этом напомнили времена испытаний. Системы, подобные сталинской или гитлеровской, овладевали человеком не через его злобу, а через его слабость. Через его слабость овладевает человеком и новая анонимная власть — власть цивилизации, которую называют потребительской. “Христос делает людей не только “добрыми”, но и сильными”, — говорит Бонхёффер15.
Со всей простотой явилась и еще одна из “первых вещей” христианства: свобода. Христос, приходящий, по слову Пророков, “освободить пленников от оков и вывести заключенных из темниц”, как это всегда пелось в рождественских песнопениях — но привычно понималось в спиритуализованном смысле: ведь и окружающая жизнь только в переносном, “духовном” смысле могла быть увидена как тюрьма. Но здесь тюрьма была совсем вещественной, и освобождение требовалось не метафорическое. Свобода переживалась в своей изначальной связи с душой (а в библейском языке душа значит жизнь) и спасением. Думая о собственной жизни и призвании, Бонхёффер не раз вспоминает удивительные слова пророка Иеремии: “Ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдешь” (Иер 45:4-5). Спасение свободной души (жизни), сохранение сердца (“Храни сердце свое пуще всего, ибо из него исходит жизнь” [Притч 4:23]) — в этом единственно он видит духовное задание своего поколения. Так, я думаю, могли бы сказать о своей жизни и те, кто отказывался от сговора со злом в Советской России. Такого рода спасение души часто стоило жизни и всегда — социального благополучия. Другие, великие дела, когда прозвучит “новый язык, возможно вообще нерелигиозный, но он будет обладать освобождающей и спасительной силой, как язык Иисуса… язык новой праведности и новой истины”16, Бонхёффер оставляет будущим поколениям.
Все эти вещи в их радикальной новизне, в их преображенности Христом — жизнь, человек, свобода, сила, ум, благородство, история, гражданство — были заслонены в христианской истории совсем другими темами размышлений и практик. Нелепо отрицать их глубину, значительность и богатство, но во времена испытаний не это было “единым на потребу”. Замечательно отталкивание Бонхёффера от анализа “психических глубин”, “тайников души” человека, от интроспекции. Он замечает: ““Сердце” в библейском понимании — это не “глубина души”, а весь человек, такой, каким он стоит перед Богом”17. В этом непсихологическом, — в его словах, “мирском”, — повороте хочет он осмыслить важнейшие категории христианства: грех, покаяние, обращение, аскезу. Для “новой простоты”, простоты прямодушного и цельного желания “идти вслед”, человеку требуется не разбираться в себе, а забыть о себе начисто, говорит Бонхёффер. Как и вообще это требуется для исполнения любого дела, хотя бы мытья посуды.
Чтобы такая первая простота христианства открылась, должно было случиться многое. Должна была произойти историческая катастрофа. Христианская традиция была изъята из “порядка вещей”, которому она, по всей видимости, принадлежала в Европе полтора тысячелетия — так, что это внушало мысль о “христианских корнях Европы”, надежных, прочных корнях18, о бесперебойном наследовании веры от отцов к детям. И вот полтора тысячелетия благополучного существования церквей в “христианском мире”, в среде “христианских народов” и “христианских государств”, подошли к концу, и конец оказался скандален. Впервые после крещения народов Церковь оказалась гонимой на собственной “канонической территории” (в России). В роли гонителей выступали “свои”, наследники той же традиции. Массовость и жестокость этих гонений превосходила римские времена. По предварительным подсчетам (данные Комиссии по канонизации российских новомучеников), число уничтоженных в СССР по религиозным статьям с 1918 по 1939 год составило около миллиона человек. Во много раз превосходящее число людей прямо или косвенно участвовало на стороне гонителей.
Бонхёффер, как позднее папа Иоанн Павел II, как многие гонимые священники и епископы Русской Православной Церкви (сошлюсь хотя бы на о. Сергия Савельева), как Вселенский Патриарх Афинагор19, хотел видеть ответственность самой церкви за все происшедшее. В конечном анализе он видел ее в том, что “церковь, боровшаяся только за свое самосохранение (как будто она и есть самоцель), не в состоянии быть носительницей исцеляющего и спасительного слова для людей и мира”20. Таков же диагноз и названных выше свидетелей ХХ века.
Но гонимой могла быть не только церковь как институция и вера как принадлежность церковной традиции (как это было в коммунистической России). Гонению подвергалось собственно христианское — и там, где отношения мирской власти и местной церкви складывались не как борьба на истребление, а как компромисс или конкорданс (как это было в Германии). Устои человечного и обжитого мира, его этические и рациональные основания рушились перед глазами очевидцев. Описание различий “прежнего”, человечного мира, где, словами Пастернака, “любить было легче, чем ненавидеть”, и мира нового, “чрезвычайного”, в котором господствует откровенное Зло, а насилие, предательство, ложь, всеобщее недоверие друг другу и подозрительность (своего рода презумпция виновности, — характерное свойство социальных парий, по наблюдению Бонхёффера) вошли в порядок вещей, удивительно совпадает у Бонхёффера и Пастернака21. Оба они знали два этих мира на опыте: в первом они выросли и сложились и навсегда несли его в себе, — но действовать они были призваны во втором. Для тех, кто родился в Германии и России позже них, “прежний мир” мог быть известен только из преданий — и к тому же запретных (официальный миф “прошлого” был совсем иным). Обозревая неисчислимые потери, беспочвенность, бесчеловечность, “безрелигиозность” нового мира, Бонхёффер не призывает к “укоренению”, а в каком-то смысле благословляет эти времена: “Я могу сказать, что не хотел бы жить ни в какое другое время”. Почему? “Еще никогда мы не чувствовали гневного Бога так близко, и это благо”, — пишет он в ноябре 1943 года22; в мае 1944: “Яснее, чем в какие-либо другие времена, мы познаем, что мир — в гневных и милостивых руках Божиих”23. Слова Псалмов и Пророков приходят ему на память в связи с происходящим как самые точные описания злободневности24. Стихи о гневе и разрушении, за которым следуют примирение и утешение. Он чувствует себя внутри Священной Истории (ведь это и значит — “быть в руках Божиих”). Это катастрофическое настоящее было полно будущим. “Ведь небиблейское понятие “смысл” есть лишь перевод того, что Библия называет “обетованием””25.
Я вспоминала пока рядом с Бонхёффером только два русских имени — С. Аверинцева и Б. Пастернака. Но существует много документов времен гонений (писем, воспоминаний, дневников), где мы встретим близкие Бонхёфферу размышления и прозрения православных исповедников, клириков и мирян. Этот опыт у нас еще не собран и не обдуман.
И вот мы, — во всяком случае, хронологически, — в том времени, которое для Бонхёффера — и для наших мучеников — было будущим. Православие в России решительно входит в порядок жизни (восстанавливая то положение вещей, о конце которого мы уже говорили). Принимает ли оно наследство катастрофического, эсхатологического христианского века? Звучит ли ожидаемый ими “язык новой праведности и новой истины”? Или этот опыт действителен только на своем месте, там, где мир рушится и человек видит лицом к лицу вещи такими, как они есть? И может спросить, как Бонхёффер: “Нужны ли мы еще?” И ответить, как он: “Достанет ли нам внутренних сил для противодействия тому, что нам навязывают, останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя — вот от чего зависит, найдем ли мы снова путь к простоте и прямодушию”26.
Что же нам навязывают, можно спросить? То, что всегда: мир с “обычностью”, с “необходимостью”, с “ничего не поделаешь!” — с покорностью смерти, одним словом: смерти в форме непростоты и криводушия. Но другого — кроме простого и прямого — пути к тому, чтобы стать “человеком, которого творит в нас Христос”, нет. Об этом не переставая говорит едва ли не единственный у нас широко слышный голос, отвечающий опыту исповедников ХХ века, — голос великого православного проповедника послекатастрофических лет, митрополита Сурожского Антония.
1 Все цитаты я привожу по одному изданию — книге Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М.: “Прогресс”, 1994, включающей посмертно изданные друзьями Бонхёффера письма из заключения, в прекрасном переводе А. Б. Григорьева. Вступительная статья Е. В. Барабанова позволит читателю увидеть богословскую мысль Бонхёффера в широком контексте протестантской теологии ХХ века.
2 Это совпадение не кажется случайным. Русская религиозная мысль (а герой Пастернака задуман как ее представитель) оказала большое влияне на старших современников и учителей Бонхёффера, немецких богословов “диалектической теологии”.
3 С восхищением Бонхёффер читает в тюрьме исследование В. Ф. Отто “Боги Греции”, где классическое греческое язычество понято как “мир, вера которого вышла из богатства и глубины жизни, а не из ее забот и тоски”.
4 Это замечательное слово нашей актуальности приобрело последнюю определенность, когда “эффективным управлением” стали называть сталинское массовое истребление населения. Эффективное значит — произведенное по ту сторону добра и зла.
5 Цитирую по: Барабанов Е. О письмах из тюрьмы Дитриха Бонхёффера. — В кн.: Бонхёффер Д. Ук. изд.
6 Лозунг итальянских фашистов: “Credere, оbbedire, vincere”.
7 “Тот, кто не позволит никаким событиям лишить себя участия в ответственности за ход истории (ибо знает, что она возложена на него Богом), тот займет плодотворную позицию по отношению к историческим событиям — по ту сторону бесплодной критики и не менее бесплодного оппортунизма”.
8 “Мысли по поводу крещения Д. В. Р.”.
9 Две эти темы — изумительность, небывалость христианства и иоаннова тема жизни — составляют лейтмотив бесед патриарха Афинагора, записанных Оливье Клеманом (Оливье Клеман. Беседы с патриархом Афинагором. Пер. с франц. Владимира Зелинского. Брюссель, 1993). Ср. у Бонхёффера: “Христианство не состоит из запретов: оно есть жизнь, огонь, творение, озарение”. Афинагор, проживший долгую и внешне благополучную жизнь, не принадлежал к числу гонимых и мучеников ХХ века; его опыт — опыт монашеского молитвенного созерцания. “Открытие” христианства в минувшем веке происходило в разных обстоятельствах.
10 Я цитирую выступление С. С. Аверинцева на открытии Зала религиозной литературы в Библиотеке иностранной литературы (Москва, 1989) на основании собственной дневниковой записи.
11 “Спустя десять лет”
12 “Письма другу”.
13 “Мысли по поводу крещения Д. В. Р.”.
14 “Письма другу”.
15 Там же.
16 “Мысли по поводу крещения Д. В. Р.”
17 “Письма другу”.
18 Как неожиданно заметил прекрасный московский священник: “Но у Европы нет христианских корней! Корни ее языческие. Христианство не пускает корней. Оно выросло на библейском корне и привито народам, как диким маслинам”.
19 “Но что мы сделали из христианства? Религию закона и самодовольства!” — Оливье Клеман.
20 “Мысли по поводу крещения Д. В. Р.”.
21 “Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, из ряда вон выходящим явлением еtc. — Борис Пастернак. Доктор Живаго.
Ср. у Бонхёффера: “Мы постоянно переоценивали значение разума и справедливости в ходе истории…. В нашей жизни “враг” по существу не был какой-то реальностью” (“Мысли по поводу крещения Д. В. Р.”). В другом месте: “Фигура Иуды, столь непостижимая прежде, уже больше не чужда нам. Да, весь воздух, которым мы дышим, отравлен недоверием” (“Спустя десять лет”).
22 “Письма другу”. Письмо от 27.11.43.
23 Там же.
24 “Каким-то образом станет явной – для того, кто вообще способен видеть, – правдивость слов Псалмов; а слова Иеремии (45:5) нам придется повторять изо дня в день”.
25 “Письма другу”.
26 “Спустя десять лет”.
Ольга СЕДАКОВА
Печатается с любезного разрешения автора.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ