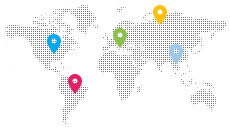Библиотека
Библиотека
ПИСЬМА ДРУГУ 2
22.12.43
Ну вот, кажется, уже решено, что я не смогу попасть к вам на Рождество, правда, никто не решается сказать мне это. А почему бы, собственно, не сказать? Думают, что у меня не хватит сопtenance? У англичан для такого состояния есть меткое словцо «тантализировать»... Мне бы хотелось завтра сказать тебе, что для меня ход моего дела вполне определенно есть вопрос веры, и у меня такое чувство, что он слишком уж стал зависеть от расчета и предосторожности. Для меня действительно не имеет значения в какой-то степени детский вопрос о том, буду ли я на Рождество дома или нет... Я думаю, что мог бы охотно этим пожертвовать, если бы делал это «в вере» и знал бы, что так и должно быть. «В вере» я могу все перенести (надеюсь), в том числе и приговор и другие последствия, которых опасаешься (Пс 17, 30), но пугливая осторожность разъедает. Не беспокойся обо мне, прошу тебя, если произойдет что-нибудь дурное (можно опасаться перевода в концлагерь). Другие братья это уже испытали. Но метание без веры туда-сюда, бесконечное взвешивание возможностей без действий, нежелание риска,— вот где реальная опасность. Мне бы хотелось знать наверняка, что я в Божиих, а не в человеческих руках. Тогда все станет легко, даже самые суровые лишения. Для меня сейчас дело не в «понятном нетерпении» (думаю, что могу это действительно сказать), как, возможно, будут говорить, а в том, чтобы все происходило в вере...
Кстати, ты должен знать, что я еще ни разу не жалел ни о том, что в 1939 году вернулся, ни о чем-либо еще, что последовало за этим. Все это было совершено абсолютно сознательно и с чистой совестью. Я не желаю вычеркивать из моей жизни то, что произошло с тех пор, ни личные моменты (... Зигурдсхоф, Восточная Пруссия, Этталь, моя болезнь и твоя забота обо мне, жизнь в Берлине), ни общие. А то, что я сейчас сижу в тюрьме (помнишь ли ты, о каком годе я пророчествовал тебе прошлым мартом?), также относится к участию в судьбе Германии, на которое я решился. Я не сетую на прошлое и без ропота принимаю настоящее; но мне не хотелось бы из-за чьих-то махинаций оказаться в неопределенном положении. Мы можем жить лишь в определенности и в вере—ты среди солдат там, на воле, я—в камере.
В «Imitatio Christi» читаю по этому поводу: «Custodi diligenter cellam tuam, et custodiet te». Бог да сохранит нас в вере.* Из Америки, незадолго до начала войны, несмотря на заманчивые предложения остаться.
Сочельник 1943
Сейчас половина десятого вечера; я провел несколько замечательных мирных часов и с глубокой благодарностью думал о том, что вы сегодня, возможно, собрались вместе...То, что мы и в этом году смогли обменяться лозунгами, было для меня одним из самых больших рождественских подарков. Я много раз думал об этом, надеялся, но не считал, что это окажется возможным. Теперь эта книга, которая так помогла мне в прошедшие месяцы, будет сопровождать нас и в грядущем году, и мы, читая ее по утрам, будем вспоминать друг друга с особым чувством. Великое вам спасибо!..
О разлуке, которая вам предстоит, мне бы хотелось кое-что сказать. Стоит ли говорить, насколько тяжело для нас расставание. Вот уже три четверти года я оторван от всех тех, к кому привязан, и за это время собрал кое-какой опыт, которым хочется поделиться...Во-первых, ничто не может возместить отсутствие милого нам человека, тут даже нечего и пытаться; нужно просто постараться все перетерпеть и выдержать; это звучит поначалу очень жестоко, но в этом кроется вместе с тем и утешение; ведь если пустота так и остается незаполненной, люди оказываются связанными ею друг с другом. Неверно говорят, будто Бог заполняет пустоту; Он вовсе не заполняет ее, напротив. Он оставляет ее незаполненной и помогает нам тем самым сохранить нашу старую привязанность, пусть это и сопряжено с болью. Далее, чем прекраснее и полнее воспоминания, тем тяжелее дается разлука. Но чувство благодарности преображает муку воспоминания в тихую радость. То, что было прекрасно в прошлом, носишь в себе не как занозу, а как драгоценный дар. Нужно остерегаться перебирать воспоминания, отдаваться им, точно так же как нельзя любоваться дорогим подарком то и дело, но лишь в особые часы; а в остальное время просто владеть им как сокровищем, в котором можно быть уверенным,—вот тогда от прошлого исходит непрестанная радость и сила. Далее, период разлуки нельзя считать потерей для совместной жизни, бесполезным временем, во всяком случае, он не должен быть таким; напротив, в этот период, несмотря на все проблемы, формируется на удивление сильная общность. И еще: я здесь особенно понял, что с фактами всегда можно справиться и что лишь забота и страх перед ними раздувают их до невозможности. От первых мгновений бодрствования до отхода ко сну мы должны поручать близкого нам человека Богу, а наши заботы о другом превращать в молитвы за него. «В заботах и тоске... у Бога ничего не допросишься!»
Первый день Рождества...Опять на краю пристегнутой к стене койки лежит груда великолепных подарков, а передо мной встают образы, радующие душу. Я все еще живу воспоминаниями о твоем приходе... Это было действительно «necessitas»! Существует духовный голод, потребность высказаться, и этот голод куда мучительнее физического. В немногих словах и намеках были затронуты и выяснены целые комплексы вопросов. Мы не имеем права утратить эту настроенность друг на друга, эту сыгранность, приобретенные за годы не всегда гладкой практики. Это невероятное преимущество и колоссальная поддержка. Чего только не коснулись мы за эти полтора часа, чего только не узнали друг от друга! Я так благодарен тебе за то, что ты все выхлопотал и устроил....Здешние обитатели старались изо всех сил, чтобы сделать для меня Рождество как можно приятней; но я был рад, когда снова оказывался наедине с собой; меня это самого удивило, и я спрашиваю себя иногда, смогу ли я снова найти себя среди людей. Ты ведь знаешь, как я, бывало, мог удрать с великих торжеств в свою комнату. Несмотря на все лишения, я даже полюбил одиночество. Я охотно разговариваю с одним человеком или двумя, но для меня просто кошмар любое скопище людей, а главное—вся эта болтовня...
23.1.44
Начиная с 9 января (твой отъезд на фронт) я думаю о вас уже иначе, чем прежде... И для меня ведь это воскресенье было рубежом, пусть и по-иному, чем для вас. Очень странное ощущение, когда однажды видишь человека, в жизни и судьбе которого принимал какое-то участие, идущимнавстречу совершенно неведомому будущему, перед которым все практически бессильны. У этого сознания собственного бессилия... мне кажется, две стороны, с одной—оно пугает, а с другой—как-то раскрепощает. Пока мы сами пытаемся принять участие в судьбе другого человека, мы никогда в конечном счете не можем избавиться от вопроса: действительно ли то, что мы делаем, служит на благо другого человека, во всяком случае, такой вопрос неизбежен, когда сильно вмешиваешься в жизнь другого; когда же нам внезапно отрезают все возможности для участия, тогда, помимо опасений за судьбу другого, все-таки остается сознание того, что жизнь его теперь попала в лучшие, более надежные руки. Довериться этим рукам—вот, пожалуй, главная задача на следующие недели, а может быть, и месяцы, для вас, для нас ... Пусть в том, что предшествует событиям, кроется много ошибок, неудач, вины, в самих же событиях—Бог. Если мы живыми преодолеем предстоящие недели и месяцы, то впоследствии нам станет ясно: было хорошо, что для нас все сложилось именно так, а не иначе. Мысль о том, что многих бед в жизни можно было бы избежать, если бы мы жили чуть с меньшей уверенностью в своих силах, право, слишком банальна, чтобы хоть на миг всерьез на ней останавливаться. При взгляде на ваше прошлое мне стало абсолютно ясно, что все до сих пор случившееся было правильным, что и настоящее также может быть только правильным. Нельзя признать христианским или даже просто человеческим отречение—во избежание горя—от подлинных радостей и от того, что наполняет жизнь...Только что стало известно о высадке в Неттунии. Не там ли где-то находишься ты? При всяком подобном повороте событий я замечаю, что спокойствие—не свойство моей натуры и что я лишь с трудом восстанавливаю его; вообще говоря, прирожденное спокойствие в большинстве случаев есть не что иное, как эвфемизм для безразличия и инертности, а потому гордиться тут нечем; у Лессинга я недавно вычитал: «Я слишком горд, чтобы считать себя несчастным,—скрипну разок зубами, и пусть себе плывет мой челнок по воле ветра и волн. Хорошо еще, что я не собираюсь сам перевернуть его!» Не является ли эта гордость и этот скрежет зубовный чем-то запретным и чуждым для христианина? (В отличие, скажем, от кроткого спокойствия человека, своевременно принявшего меры?) Разве не существует также и гордого, скрежещущего зубами спокойствия? Которое все-таки совсем непохоже на упрямую, тупую, неподвижную, безжизненную, а главное, нерассуждающую покорность перед неотвратимым? Я убежден, что мы окажем Богу большую почесть, если жизнь, данную Им, будем познавать во всех ее ценностях, будем черпать ее и любить, а потому сильно и искренне чувствовать также боль из-за извращенных или утраченных жизненных ценностей (вот это как раз и порицают с удовольствием как слабость и чувствительность буржуазного образа жизни), чем в том случае, когда человек безразличен к приятностям жизни, а потому может быть также глухим и к боли. Слова Ио-ва: «Бог дал, Бог и взял; да будет имя Господне благословенно!» (1, 21) скорее подразумевают это, чем исключают; это явно следует также из его речей, произносимых со скрежетом зубовным, и из теодицеи, содержащейся в них (42, 7 ел.), в противовес ложному, преждевременному смирению его благочестивых друзей......
То, что ты в этой связи говоришь о дружбе, которая в отличие от брака и родственных связей не пользуется никакими общепризнанными правами и поэтому всецело зависит от ее внутреннего содержания, мне кажется, прекрасно подмечено. Ведь действительно вовсе не легко найти место дружбе в социологическом плане. Ее, пожалуй, можно включить в понятие культуры и образования, тогда как братские отношения попадают в рамки понятия Церкви, а приятельские—в сферу понятия труда и политики. У брака, труда, государства и Церкви имеются конкретные божественные мандаты, а как обстоят дела с культурой и образованием? Не думаю, что их можно просто включить в понятие труда, как бы заманчиво это ни выглядело. Они относятся не к сфере повиновения, а к области свободы, охватывающей все три сферы божественных мандатов. Тот, кто пребывает в неведении относительно этой области свободы, может быть хорошим отцом, гражданином и тружеником, пожалуй, также и христианином, но будет ли он при этом полноценным человеком (а тем самым и христианином в полном объеме этого понятия), сомнительно. Наш «протестантский» (не лютеранский) прусский мир в такой степени определяется этими четырьмя мандатами, что сфера свободы всецело оттеснена на задний план. Может быть, как мне сегодня кажется, именно понятие Церкви дает возможность прийти к осознанию сферы свободы (искусство, образование, дружба, игра)? Т. е. не изымать «эстетического существования» (Кьеркегор) из области Церкви, а как раз в ней-то и обосновать его по-новому? Я убежден в этом; а отсюда можно было бы по-новому подойти к Средневековью! Ведь кто, например, в наши дни способен беззаботно отдаваться музыке или дружбе, играть и радоваться? Уж конечно, не «этический» человек, а только христианин. Именно потому, что дружба относится к сфере свободы («христианского человека»!?), и следует надежно защищать ее от недоверчивой мины «этического» человека, не претендуя, разумеется, на necessitas божественной заповеди, но с притязанием на necessitas свободы! Я считаю, что в рамках этой свободы (а где еще быть дружбе в нашем мире, всецело определяемом тремя остальными мандатами?) дружба есть редчайшее и драгоценнейшее достояние. Его не сравнить с доменами этих мандатов, по отношению к ним оно просто sui generis, но вместе с тем неразрывно с ним связано, как василек с нивой.Теперь о твоем замечании относительно «страха Христова». Он ведь высказывается лишь в молитве (а также в псалмах); (мне всегда было непонятно, почему евангелисты приводят эту молитву, которую не мог слышать ни один человек, а указание, что Иисус будто бы открыл ее ученикам в evangelium quadraginta dierum, есть просто отговорка; что ты думаешь по этому поводу?).
Весьма возможно, что твое упоминание Сократа в связи с темой образования и смерти очень плодотворно. Я еще подумаю над этим. Ясно же мне во всей проблеме лишь одно, что «образование», которое подводит в момент опасности, не является таковым. Образование должно уметь противостоять опасности и смерти—impavidum feriunt ruinae (Гораций), пусть оно и не может их «преодолеть»; а что значит—преодолеть? Искать в суде прощение, в ужасе—радость? Но об этом стоит поговорить еще...Что будет с Римом? Кошмарным сном кажется мне мысль, что он может быть разрушен. Как хорошо, что мы повидали его еще в мирное время!У меня все в порядке, работаю и жду. Впрочем, я ведь во всех отношениях неисправимый оптимист и хотел бы видеть и тебя таким! До скорого, радостного свидания!Если тебе как-нибудь попадется на глаза Лаокоон, обрати внимание на его (отца) голову—не использовали ли ее позднее в качестве прототипа для образа Христа. В последний раз этот античный страдалец сильно подействовал на меня и долго не оставлял...... Я вынужден был избрать новый тон в отношениях с партнером по ежедневным прогулкам; он все старался подъехать ко мне, и все-таки, несмотря на все его усилия, у него на днях сорвалось замечание о еврейской проблеме и т. п., что заставило меня отреагировать так резко и холодно, как я, пожалуй, никогда не обходился с людьми, и немедленно лишить его этих маленьких приятностей. Пусть он некоторое время вволю потрепыхается, меня это абсолютно не волнует (я сам поражаюсь себе, но это даже интересно). Он в самом деле жалкий тип, но уж, во всяком случае, не «бедный Лазарь».
29 и 30.1.44
...также потому, что для меня трудно лишиться возможности писать тебе, я воспользовался тихим воскресным вечером, который на редкость непохож на обе последние грохочущие ночи, чтобы немного побеседовать с тобой. Как подействовали на тебя первые дни, когда ты непосредственно столкнулся с войной, какие у тебя впечатления от англосаксонского противника, которого мы до сих пор знали лишь по мирным временам?
Когда я думаю о тебе по утрам и вечерам, я должен основательно остерегаться, чтобы в мыслях не застревать на заботах и лишениях, выпавших на твою долю, с тем чтобы получилась настоящая молитва. В этой связи мне хотелось бы поговорить с тобой о молитве в беде. Дело это трудное, но недоверие, которым оно у нас сопровождается, не лучше. В псалме 49 прямо говорится: «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Вся история чад Израилевых состоит из таких воплей о помощи.
И я должен сказать, что последние две ночи снова поставили меня перед этим вопросом. Когда бомбы так и рвутся вокруг дома, я ни о чем не могу думать, как только о Боге, о Суде Его, о «простертой длани» Его гнева (Ис 5,25 и 9,11—10,4), о моей недостаточной готовности; я чувствую, что произношу нечто вроде обета, и тогда я думаю о вас всех и говорю себе: лучше меня, чем кого-либо из них,—и ощущаю при этом, как сильно я к вам привязан. Хватит на эту тему, об этом можно говорить только в устной беседе,—но все-таки это именно так—только беда встряхивает нас и заставляет молиться, и каждый раз я воспринимаю такое положение вещей как нечто постыдное, но так оно и есть. Может быть, все дело в том, что до такого момента я просто не мог обратиться к другим с христианским словом. Когда мы вчера вечером опять лежали на полу, и один из нас (надо сказать, довольно легкомысленный парень) достаточно громко восклицал: «О Боже, о Боже!»— я не мог заставить себя как-то ободрить его по-христиански, утешить, но, как сейчас помню, взглянул на часы и только сказал: «Это продлится еще максимум 10 минут». Все произошло само собой, без какого бы то ни было расчета, и, наверно, связано с чувством непозволительности использовать такой миг для религиозного вымогательства. (Кстати, Иисус на кресте тоже не уговаривал разбойников, а один из них сам к нему обратился!)
К моему горю, меня позавчера постигла большая утрата. Один из умнейших и, на мой взгляд, по-человечески симпатичнейших людей в этом доме был убит в городе в результате прямого попадания. Я бы непременно познакомил тебя с ним позднее, у нас было много планов на будущее. Мы много и хорошо беседовали, недавно он принес мне книгу «Домье и юстиция»—она еще у меня; это был по-настоящему образованный человек, вышедший из рабочей среды, философ, отец троих детей. Я был потрясен.В последние дни я снова занялся небольшой литературной работой, я уже писал тебе о ней; это встреча двух людей, связанных многолетней дружбой, после долгой разлуки из-за войны. Надеюсь, скоро перешлю тебе этот диалог. Не бойся, это не роман с прозрачными прототипами!...В прежние времена одной из тех проблем, с которыми мы теперь вынуждены справляться, хватило бы, чтобы загрузить нас полностью. Сейчас же мы должны приводить к одному знаменателю войну, брак, церковь, профессиональные вопросы, заботы о жилье, опасность, угрожающую близким людям, их смерть, да к тому же и мою теперешнюю особую ситуацию. У большинства людей эти вещи ведь идут, наверно, сами по себе. Для христианина и для «образованного» это невозможно, он не потерпит ни внутреннего раскола, ни разрыва; общий знаменатель надо искать как в сфере мысли, так и в жизненной, единой для личности позиции. Кто позволяет событиям и проблемам разрывать себя, тот не выдержал испытания ни для настоящего, ни для будущего. Про юного Витико сказано в одном месте, что он отправился в странствие по миру, «чтобы соделать полноту»; речь идет об будрожо^ те^еюд (вед те^ею(; первоначально означало «всецелый, noлный», т. е. совершенный). «Вы должны быть ее вершенными (те^.ею<;), как «совершенен» наш небесный Отец» (Мф 5, 48),—в отличие OT'avf\p 81 Ч/u^o^—«двоедушного» из Послания Иаков (1, 8). Витико «соделывает полноту», стремясь найти свое место в реальной жизни и прислушиваясь к советам бывалых людей, т. е. являясь членом этой «полноты». Не станешь «целостным» caм по себе, но лишь только с другими вместе...Я только что взялся за «Историю прусской Академии» Гарнака—очень хорошая книга. Мне кажется, что в этой теме как раз его сердце, да oн сам не раз говорил, что считает ее своей лучшей книгой.Как ты себя чувствуешь в физическом отношении? Я, на удивление, все еще хорошо. Сказывается, видимо, сознание абсолютной недопустимости болезни здесь. Для чтения я еще нахожу силу и сосредоточенность, а для писания, для творческой работы—не всегда, но все-таки время от времени получается неплохо. Не знаю, смогу ли я снова привыкнуть к людям?..
Carpe diem—в моем случае это значит, что я использую любую возможность, чтобы поспать тебе привет. Во-первых, я мог бы неделями без остановки писать тебе о том, что необходимо тебе рассказать, а во-вторых, никогда не знаешь, сколько это еще продлится...Знай, что последние ночи были тяжелыми, особенно на 30 января. Утром ко мне явились пережившие бомбежку, чтобы найти какое-то утешение. Но думаю, что я плохой утешитель. Выслушивать я еще могу, но сказать что-нибудь почти выше моих сил. Хотя, может быть, уже то, что о каких-то вещах спрашиваю, о других—нет, является своего рода указанием на суть дела. Кроме того, мне кажется более важным, если та или иная беда действительно переживается, без всякого замазывания и ретуши. Вот только в отношении известных фальшивых интерпретаций беды у меня нет снисхождения, поскольку они тоже стремятся утешать, будучи на самом деле ложными утешениями. Так я и оставляю беду без всякой интерпретации и думаю, что это вполне ответственное начало, дальше которого я редко-редко когда продвигаюсь. Временами мне кажется, что настоящее утешение должно обрушиваться с такой же неожиданностью, как и горе. Но признаю, что это может быть только уловка.
Для меня всегда было загадочным (как во мне самом, так и в других), как легко забываются впечатления от ночных налетов. Проходит ведь только пара минут, а почти все из того, о чем думал, как ветром сдуло. Лютеру, для того чтобы вся его жизнь на долгие годы пошла по новому руслу, достаточно было удара молнии. Где же эта «память» сегодня? Не является ли утрата этой «моральной памяти» (отвратное слово!) причиной разрушения всех связей, любви, брака, дружбе верности? Нет никакого удержа, ничто не прочее. Все эфемерно, мимолетно. А такие ценности, к справедливость, истина, красота, вообще все великие достояния, нуждаются во времени, постоянстве, «памяти», в противном случае они вырождаются. Кто не настроен отвечать за прошлое и формировать будущее, тот «забывчив», и я знаю, как ухватить подобного человека, поставить его перед необходимостью задуматься. Bсe, любое слово, пусть оно в этот момент и производит впечатление, все равно забывается. Что тут делать?—вот величайшая проблема христианок его пастырского служения.
Мне пришлось по душе твое недавнее выражение: люди настолько скоры и настолько «бесстыдны дома». Я стащу его у тебя, чтобы использовать и оценить...Наблюдал ли ты тоже, что необразованные люди с трудом принимают решения, исходя из сути дела, что решающими всегда оказываются случайные, второстепенные обстоятельства? Я считаю это характерной особенностью. Разделение делового и приватного мышления нужно eму только учиться. Кстати, многие так и не выучиваются.
Это правда, что ты находишься к северу от Рема?... Надеюсь, что тебе удастся еще раз повидать город; наверное, испытываешь танталовы муки быть у ворот и не иметь возможности войти. Есть, правда, слабое утешение, что ты ведь уже как-то раз повидал его...Сколько времени мне придется еще развлекаться в этом доме, столь же непонятно, как и 8 недель тому назад. Я стараюсь максимально использовать каждый день, чтобы как можно дальше продвинуться в работе и чтении; ведь совершенно неясно, что ждет впереди. К сожалению, доставание книг—единственная область, где не все идет гладко. Поэтому планы несколько путаются. Честно говоря, мне хотелось бы как можно основательнее изучить немецкую литературу XIX века. Для этого мне теперь не хватает прежде всего приличного знания Дильтея. Но его книг наверняка не достать. А еще я воспринимаю как мучительный, уже невосполнимый пробел мое полное неведение в естественно-научной области.
Мой нынешний партнер, о котором я много раз тебе писал, становится с каждым днем все более жалким. У него здесь еще двое коллег, один из которых с утра до ночи хнычет, а другой во время тревог (а вчера даже когда подали предварительную тревогу)—буквально—накладывает в штаны. Когда вчера он со слезами на глазах сообщил мне об этом, а я разразился хохотом и обругал его, он стал поучать меня, что нельзя в несчастье никого ни осмеивать, ни осуждать. Это для меня было уж слишком, и я резким тоном выразил свое презрение к людям, которые могут быть суровы к другим, произносят высокопарные речи об опасной жизни и т. д., а при самой ничтожной пробе сил теряют самообладание, это, мол, позор, у меня тут нет никакого сострадания; и вообще таких представителей я бы выкинул из артели т. к. они срамят ее и т. п. Он был поражен и, видимо, решил, что я весьма сомнительный христианин. Вообще говоря, поведение этих субчиков здесь уже стало притчей во язьщех, что порождает соответствующую, не очень приятную для них реакцию. Для меня этот опыт крайне поучителен, хотя он и отвратительнее всего того, что я до сих пор здесь насмотрелся. Мне думается, что я на самом деле не с такой уж легкостью могу презирать человека, попавшего в беду, и я высказал это достаточно недвусмысленно, так что у него, наверное, волосы встали дыбом; но все это действительно вызывает у меня только презрение.
17—летние ребята находятся здесь во время тревог в гораздо более опасных местах и ведут себя безукоризненно, а эти скулят тут (я чуть было н ввернул солдатское выражение, которое бы тебя удивило!). Иначе и не скажешь—рвотное средство! Н-да, каждый позорится по-своему. Надеюсь, что ты не подумаешь, будто я записался в герои. Поводов для этого здесь достаточно много! Но есть одна слабость, за которую христианство не отвечает, и вот за нее-то цепляются, чтоб его опорочить. Нам тут надо стараться, чтоб контуры были чистыми. Вчера принесла мне толстый том о Магдебургском соборе. Я в восторге от скульптур, особенно от нескольких блгагоразумных дев. Блаженство, написанное на эти вполне земных, почти крестьянских лицах, поитине восхищает и трогает. Ты еще хорошенько насмотришься на них!
4.2.44
Нет ничего для меня более естественного, чем писать тебе утром дня моего рождения, вспоминая, что мы восемь лет подряд отмечали его вместе. Пусть работа полежит пару часов, ей это, наверное, только на пользу. Я жду свидания с М. или с родителями, хотя еще неизвестно, удастся оно или нет. Восемь лет назад мы сидели вечером у камина. Вы преподнесли мне в подарок ре-мажорный скрипичный концерт, и мы вместе прослушали его. Потом, кажется, я рассказывал вам о Гарнаке, о прошлых временах, что вам, не знаю почему, особенно пришлось по вкусу, а под конец была окончательно решена поездка в Швецию. Годом позднее вы подарили мне Сентябрьскую Библию с симпатичной надписью и твоим именем во главе подписавшихся. Затем был Шленвиц и Зигурдсхоф—многие тогда праздновали этот день с нами, многие, которых уже с нами нет. Пение под дверью, молитва во время богослужения, которую ты в тот день прочитал, песнь на стихи Клаудиуса, которую спел Г.,—все это останется прекрасными воспоминаниями, которые неподвластны здешней мерзкой атмосфере. Я полон уверенности, что мы отпразднуем твой ближайший день рождения снова вместе и—кто знает?— может быть, даже и Пасху! Тогда мы опять обратимся к настоящей жизненной задаче, и прекрасной работы будет у нас хоть отбавляй; а то, что мы тем временем пережили, пригодится. Причем за то, что мы сможем именно так оценить настоящее, как мы это оба делаем, мы должны благодарить друг друга. Я думаю, что ты сегодня думаешь обо мне, и буду очень рад, если в этих думах присутствует не только прошедшее, но и надежда на будущее, пусть и изменившееся, но все таки общее.
Теперь уже, видимо, недолго осталось до тол момента, когда ты получишь радостное известие. Нелегко, наверное, быть вынужденным праздновать такой необычный день радости среди чужих людей, которые не могут тебе помочь по-настоящему ощутить радость, осмыслить ее и связать с повседневной жизнью и для которой цель и кульминационный пункт всякой радости в большей или меньшей степени заключается в выпивке. Я желаю тебе найти человека, с которым ты мог бы сблизиться (единственный человек, с которым я начал сходиться теснее, был убит, как я уже тебе писал, во время налета), но думаю, что для нас найти то, что мы ищем и в чем нуждаемся, сложнее—мы ведь в отношении дружбы предъявляем более высокие требования чем другие. Вот и в этом плане трудно найти замену!
Я не дописал письма, как меня вызвали вниз М. первая встретила меня радостным известием «У Р. родился мальчик, и назвали его Дитрихом!) Все прошло гладко, за полтора часа, мама и К принимали роды! Какой сюрприз и какое счастье!Я так рад, что не могу найти слов. А как счастлив будешь ты! И все это так быстро и хорошо! Вот у тебя теперь есть сын, и все мысли с надеждой устремлены в будущее. Ведь какие задатки должны быть у него... Итак, его назвали Дитрихом, не знаю даже, что и сказать. Что я буду для него хорошим дядькой-крестным и двоюродным дедом, пообещать могу; я был бы лицемером, если бы не сказал, что в самом деле бесконечно рад и горжусь тем, что вы вашему первенцу дали мое имя. То, что он со своим днем рождения на сутки опередил меня, должно означать, что он собирается отстаивать свою самостоятельность по отношению к дядюшке-тезке и всегда будет идти чуточку впереди. Соседство наших дней рождения мне очень приятно. Если он когда-нибудь услышит, где был его дядя, когда он получил свое имя, на него это, должно быть, произведет впечатление. Я вам очень благодарен за то, что вы так решили, и думаю, что другие этому также порадуются.
5 февраля.
Вчера, когда так много людей были столь внимательны ко мне, я, честно говоря, совсем забыл про собственный день рождения и праздновал только день рождения маленького Дитриха. Даже трогательный букетик, который нарвали для меня здешние обитатели, стоял в моих мыслях у кроватки вашего малыша. Правда, ничего более радостного этот день не мог бы принести. Только засыпая, я понял, что ты в нашей семье произвел передвижку поколений: 3 февраля возникли новые прадедушки и прабабушки, бабушки и дедушки, внучатые дядьки и тетки и молодые дяди и тети! Ничего не скажешь, силен! Меня возвестило третье поколение!..Р. прислала мне вчера еще ко дню рождения восхитительный хворост, который сама испекла. М. принесла сказочную посылку, родители подарили «ларчик Херцлиб»,—в свое время Гёте подарил его Минне Херцлиб. От Клауса я получил Дильтея «О немецкой поэзии и музыке», позднее я расскажу тебе об этом!
Будете ли вы просить маму и К. быть крестными? К сожалению, я должен заканчивать; письмо сейчас уйдет. Голова и сердце настолько переполнены добрыми и радостными мыслями, что я не в состоянии записать их все. Но ты знаешь, что я о тебе помню, стараюсь делить все твои радости и все время с тобой беседую... Как хотел бы я скоро последовать твоему примеру!
Прощай, не болей. Господь да сохранит и благословит вас и вашего малыша.
Из-за легкого гриппа я пролежал несколько дней в постели, но сейчас уже на ногах, что, вообще говоря, неплохо, ибо примерно через неделю мне нужно будет привести все мои пять чувств в полную готовность. До этого времени я хотел бы как можно больше прочесть и написать—кто знает, когда это снова станет возможным...У вас, наверное, уже весна? Здесь же только зима начинается. В своем воображении я часто живуна природе—на лесных лужайках у Фридрихсбрунна или на склонах, откуда за Трезебургом виден Брокен. Я лежу на спине в траве, смотрю в голубое небо, на облака, гонимые легким ветром, и слушаю звуки леса. Удивительно, насколько сильно такого рода детские впечатления формируют всего человека, так что мне кажется почти невозможным и противным моему существу, что мы, скажем, могли бы владеть домом в высокогорье или на море! Горы же средней высоты—это природа, которая связана со мной (Гарц, Тюрингский лес, Везерские горы) или меня сформировала. Разумеется, есть еще и Гарц для мелких буржуа, и Везерские горы—идеал «перелетных птиц», точно так же как существует великосветский Энгадин и Энгадин Ницше, романтические места по Рейну, прусская Прибалтика, кокетливая нищета и грусть рыбачьих хижин; так что, наверное, и мои «средние горы» можно назвать «бюргерскими» (в смысле естественности, отсутствия экзальтированности, в смысле скромности, непритязательности, нейтральности, довольства конкретной реальностью и прежде всего скрытности). Соблазнительно было бы как-нибудь продолжить социологический анализ природы. Кстати сказать, Штифтер открыл мне различие между наивностью (Einfalt) и простотой (Einfachheit). Штифтер не наивен, но прост (как может быть «простым» «бюргерское» начало). «Наивность» (в том числе и в теологии) понятие скорее эстетическое (прав ли Винкельман, определяющий античное искусство как «благородную наивность»? Во всяком случае, не в отношении, например, Лаокоона; «тихое величие» я весьма ценю). «Простота» же—этическое понятие. «Простым» можно стать, «наивным» можно только быть. «Простоту» можно воспитать, привить—это ведь и есть одна из существеннейших задач воспитания и образования. Наивность—дар. В аналогичных отношениях стоят понятия «чистый» (rein) и «умеренный» (maBvoll). «Чистым» можно только быть, изначально или с определенного момента, т. е. начиная с крещения или с прощения в Евхаристии; как и «простота», это понятие целостности; утраченная чистота (а вся наша чистота утрачена!) может быть опять дарована в вере. Но в своем развитии и в нашей жизни мы уже не можем быть «чистыми», но лишь «умеренными»; и это— реальная и необходимая цель воспитания и образования.
Какое впечатление произвел на тебя итальянский ландшафт? Существует ли, вообще говоря, итальянская пейзажная живопись? Что-нибудь вроде Тома или Клода Лоррена, или Рейсдаля, или Тернера? Или же природа там настолько впиталась в искусство, что ее саму по себе просто не видят? Сейчас я могу припомнить только хорошие городские виды, но ничего из пейзажей.
Я часто наблюдаю здесь—на самом себе и на других—различие между разговорчивостью, желанием высказаться и потребностью исповеди.
Разговорчивость может быть иногда очаровательной у женщин, но у мужчин она кажется мне отвратительной. Болтают, не разбирая, перед первым встречным о своих делах, интересует ли это собеседника или нет, имеет ли он вообще какое-то к этому отношение или нет, просто потому, что необходимо выболтаться; если несколько часов сдерживать этот почти что физический позыв, то потом будешь только рад, что не дал ему воли. Мне иногда просто стыдно видеть, как люди унижают себя этим стремлением высказаться, как они беспрестанно говорят о своих делах тем, кто просто недостоин этого и кто их едва ли слушает; а самое удивительное при этом, что у них даже нет потребности говорить правду: главное для них— только поговорить о себе, будь это правда или выдумки. Совсем иное—потребность в настоящей беседе, то есть в духовном общении. Но лишь очень немногие из здешних обитателей в состоянии вести разговор, выходящий за пределы частных дел. И также чем-то иным является потребность в исповеди. Я думаю, здесь она встречается нечасто по той причине, что ни с субъективной, ни с объективной точек зрения эта потребность не затрагивает прежде всего «греха». В молитвах, которые я тебе послал, ты обратишь внимание на то, что просьба об отпущении грехов не стоит в центре; действовать здесь в духе «методистов» было бы абсолютно неверно, как в отношении сути дела, так и с точки зрения пастырской работы. Надо будет как-нибудь поговорить об этом.
14.2.44
...Похоже, что через 8 дней будет принято какое-то решение по моему делу. Если окажется, что меня пошлют поближе к Мартину (концлагерь Дахау, где содержался пастор Мартин Нимеллер*), во что я не верю, то и в этом случае не беспокойся. Я совершенно спокоен в отношении себя. Прошу вас, не волнуйтесь и вы.
21.2.44
...О себе должен, к сожалению, сообщить, что я предположительно буду переведен отсюда лишь после Пасхи....Представляет ли собой чрезмерная благоразумная рассудительность—над которой ты столько раз потешался, качая головой (вспоминаются наши походы),—все-таки оборотную сторону буржуазного образа существования, то есть именно ту долю безверия, которая в спокойные времена не видна, а в беспокойные выходит на поверхность, причем в облике «страха» (я имею в виду не «трусость», ибо здесь двойственная ситуация: «страх» может проявляться как в безрассудной храбрости, так и в трусости) перед естественным простым поступком и перед принятием необходимого решения. Я часто задумывался здесь о том, где пролегает граница между необходимой борьбой против «судьбы» и столь же необходимой покорностью перед ней. Дон Кихот есть символ граничащего с безумием продолжения борьбы, да, безумием, как это произошло в случае Михаэля Кольхааса, который, отстаивая собственные права, стал преступником... В обоих случаях сопротивление в конечном счете утрачивает свой реальный смысл и превращается в нечто фантастически абстрактное; Санчо Панса же есть представитель сытого и лукавого компромисса с реальностью. Думаю, что мы должны действительно браться за великие, настоящие дела и вместе с тем делать естественные и самые обыкновенные нужные вещи, мы должны столь же решительно противиться «предопределению» (я считаю важным, что это понятие среднего рода), как в данное время мы ему покоряемся.
О «Промысле» (Fuhrung) можно говорить лишь за пределами этого двойственного процесса, Бог уже не встречается нам как «Ты», а также скрыто в «Оно» («предопределении»), и в моем вопросе речь, по сути дела, идет о том, как мы в этом «Оно» («предопределении») обретаем «Ты», или, другими словами, как из «предопределения» в действительности получается «Промысел». Таким образом, границы между сопротивлением и покорностью в принципе нельзя точно определить; но и то и другое должно иметь место, за то и за другое надо браться со всей решимостью. Такого гибкого, живого дела и требует от нас вера. Только так мы сможем переносить любую ситуацию и извлекать из нее пользу.
23.2.44
Если у тебя будет возможность съездить на Страстную Пятницу в Рим, я бы тебе посоветовал принять участие в дневной службе Великого Четверга (примерно от 2 до 6) в соборе Св. Петра; это и есть богослужение Страстной Пятницы, так как римская церковь начинает праздники накануне около полудня; насколько я могу припомнить (но это не точно), в Среду также большая служба. В Великий Четверг совершается гашение 12 свечей в алтаре—как символ бегства учеников,—и в колоссальном помещении остается гореть в центре лишь одна свеча—Христос; помимо этого— очищение алтаря; утром в Великую Субботу, примерно в 7 часов, совершается водосвятие (насколько помню, вместе с рукоположением молодых священников); до полудня поется великая пасхальная аллилуйя, снова звучит орган, звенят литургические колокольчики, снимают покровы с закрытых образов. Это и есть главное пасхальное торжество. Где-то в Риме я был свидетелем также греко-православного пасхального богослужения, которое в то время (ведь минуло уже 20 лет!) произвело на меня сильное впечатление. Надо сказать, что субботняя служба в Латеране (вначале в баптистерии) весьма знаменита; в тот раз я побывал и там. Если ты перед заходом солнца будешь проходить по Пинчио у церкви Тринита дель Монте, посмотри, поют ли в это время монахини; я однажды слушал это пение и был потрясен; думаю, что оно отмечено и в Бедекере.
В какой степени ты можешь столкнуться там внизу с боевыми действиями? Я думаю, что если иметь в виду в основном воздушные налеты, то так же, как и мы. Ужесточение войны в воздухе за последние примерно 10 дней заставляет задуматься, особенно интенсивные дневные налеты. Не стремятся ли англичане сейчас сознательно бросить вызов к воздушной битве в качестве подготовки к вторжению и для того, чтобы сильнее привязать нашу противовоздушную оборону к внутригерманским районам?
Чем дольше пребываем мы в отрыве от нашей настоящей профессиональной и личной жизненной сферы, тем в большей степени мы ощущаем, что наша жизнь (в отличие от жизни наших родителей) носит фрагментарный характер. Особенно явственным это делается при чтении «Истории Академии» Гарнака, рисующего фигуры великих ученых мужей; это может нагнать тоску. Где еще можно найти сегодня «духовный продукт всей жизни»? Где собирательство, переработка и развитие, из которых он и вырастает? Где прекрасная бесцельность и вместе с тем колоссальная планомерность, присущие такой жизни? Мне кажется, что у людей техники и естественных наук, которые одни только еще могут свободно работать, от этого тоже уже ничего не осталось. Если с исходом XVIII столетия ушел в прошлое тип «универсального ученого», а в XIX веке место экстенсивного образования заступило образование интенсивное; если, наконец, из него на исходе прошлого столетия выработался тип «специалиста», то сегодня почти что каждый есть только «техник»— даже в искусстве (в музыке крупного формата, в живописи и поэзии разве что среднего!). Все же наше духовное существование остается при этом обрубком. Главное здесь, пожалуй, видит ли еще сам человек по фрагменту нашей жизни, в каком виде было заложено и задумано целое, из какого материала оно состоит. Есть, наконец, фрагменты, место которым на помойке (они недостойны даже приличной «оболочки»), а также такие, которые сохраняют значимость на века, поскольку их завершение может быть только божественной прерогативой, т. е. фрагменты, которые и должны быть фрагментами (я имею в виду, например, «Искусство фуги» Баха). Если наша жизнь явит собой хотя бы только отдаленный блеск такого фрагмента, в котором пусть на короткий миг сольются различные, все сильнее переплетающиеся темы и от начала до конца будет выдержан великий контрапункт, так что в конце концов за оборвавшимся звучанием останется только запеть «Пред престолом Твоим предстаю»,—тогда мы не станем жаловаться на нашу дробную жизнь, а даже порадуемся ей. 45-я глава из Иеремии не отпускает меня. Помнишь субботний вечер в Финкенвальде, когда я ее толковал? Вот и здесь (необходимый) фрагмент жизни—«а душу твою дам тебе в добычу»....Я очень обрадовался, узнав, что ты, помимо иных приятелей, подыскал и такого, с кем можно поговорить и на кого можно положиться. Но еще с большей радостью я был бы на его месте. Сбудется это или мы, возможно, уже сможем отпраздновать Пасху здесь снова, как повелось в старые времена? Ты видишь, я еще не оставляю надежды. Не делай и ты этого!
1.3.44
...Ну и день же это будет, ... обменяться опытом и знаниями за целый долгий год; для меня, во всяком случае, ожидание этого дня связано с величайшими надеждами на ближайшее время. С тобой, вероятно, будет в свое время то же самое, и ты едва сможешь представить себе, что однажды все это сбудется; просто не верится, что стену препятствий, отделяющих человека от исполнения этих желаний, когда-нибудь можно будет пробить—но то, «что откладывается, тем слаще...», и я должен заметить, что в этом новом месяце я живу большими надеждами, и думаю, что ты тоже. Я еще раз беру разбег, чтобы как можно интенсивнее использовать оставшееся время. Возможно, что и у тебя там будут впечатления, важные для твоей жизни. Каждодневная угроза жизни, угроза, которую в настоящий момент испытывают почти все, оказывает своеобразное влияние, обостряя восприятие момента, жадное использование времени. Иногда я думаю, что живу так долго, как будто мне еще предстоит добиться какой-то по-настоящему великой цели...
9.3.44
Сегодня я... снова услышал о тебе, во всяком случае, что дела твои идут сносно; хотя это и немного, ибо мы хотели бы от жизни чего-то большего, чем просто «сносности», все-таки какое-то успокоение приносит взгляд на нашу нынешнюю ситуацию как на status intermedius; знать бы только, как долго продлится эта «чистилищная ситуация»! Лично мне дали возможность строить какие-то планы на май! Не постыдные ли это проволочки? ... Зепп*, со свойственной ему энергией и упрямым выражением лица отбарабанив свой срок, снова дома.
Я еще не ответил тебе по поводу твоей идеи: Микеланджело—Буркхардт—hilaritas. С одной стороны, мне это близко, во всяком случае, что касается тезисов Буркхардта... С другой же, hilaritas нельзя понимать лишь как классическую радостную беззаботность (Рафаэль, Моцарт); ведь и Вальтеру фон дёр Фогельвейде, Бамбергскому всаднику, Лютеру, Лессингу, Рубенсу, Гуго Вольфу, Карлу Барту—вот лишь несколько имен наудачу—всем им присуща доля hilaritas, которую я мог бы охарактеризовать как уверенность в собственном деле, как смелость, вызов, брошенный миру и вульгарному мнению, как твердое сознание полезности своего труда для мира, пусть ему это и не нравится, как бодрую уверенность в себе. Согласен, что Микеланджело или тот же Рембрандт, а позднее Кьеркегор и Ницше принадлежат совсем к другой линии, чем названные первыми. В их трудах несколько меньше отстраненности от себя самого, меньше юмора. И все-таки я бы отнес к некоторым из них понятие hil'aritas в описанном смысле, как необходимый атрибут гения. Здесь кроется (возможно, сознательная) ограниченность Буркхардта.
В последнее время меня занимала связанная не с Возрождением, а выросшая из Средневековья, вероятно, из идеи императорской власти в борьбе против папства «мирская природа», «светскость» XIII столетия (Вальтер, Нибелунги, Парцифаль— удивительная веротерпимость по отношению к магометанам в лице Фейрефица, сводного брата Парцифаля! — Наумбургский и Магдебургский соборы). Это совсем не «эмансипированная», а «христианская», хотя и антиклерикальная «светскость». Где же оборвалась эта «светскость», столь чужеродная для Возрождения? Думаю еще кое-что откопать по этому поводу у Лессинга (в отличие от западного Просвещения), в несколько ином аспекте у Гёте, а позднее у Штифтера и Мёрике (не говоря уже о Клаудиусе и Готхельфе), но никак не у Шиллера и идеалистов. Крайне важно составить здесь хорошую генеалогию. Возникает еще один вопрос: какую роль отводить античности? Является ли она для нас все еще подлинной проблемой и источником силы или нет? Новоевропейский (modern) подход к античности с точки зрения «полисного человека» мы уже как-никак преодолели. Ведь классицистический способ рассмотрения под эстетическим углом зрения имеет значение уже лишь для немногих, да и то слегка музейное. Основные гуманистические понятия—человечность, терпимость, мягкость, умеренность—уже можно встретить у Вольфрама фон Эшенбаха и в Бамбергском всаднике; отлитые в прекраснейшую форму, тут они доступнее для нас и обязательнее, чем даже в античности. Итак, в какой мере «образование» связано с античностью? Справедлива ли еще концепция истории, развиваемая в трудах историков от Ранке до Дельбрюка, согласно которой история представляет собой некий континуум, состоящий из «древнего мира», «Средневековья» и «Нового времени»? Или, может быть, Шпенглер со своей идеей замкнутых культурных сфер по крайней мере столь же прав, пусть он и чересчур биологизирует исторические процессы. В принципе концепция исторического континуума опирается на Гегеля, который видит кульминацию всей истории в «Новом времени», т. е. в своей философской системе; она, следовательно, идеалистична (несмотря на постулат Ранке, что любой исторический момент «непосредственно связан с Богом»; из этого постулата можно было бы прийти к поправке в общей концепции эволюционного континуума, но этого не произошло); Шпенглерова «морфология» биологична, и в этом ее ограниченность (как понимать «старение», «гибель» какой-либо культуры?). По отношению к понятию образования это означает, что нельзя идеалистически приписывать античности роль абсолютного фундамента, как нельзя с «биолого-морфологических» позиций просто вычеркивать ее из нашей образовательной сферы. Пока в ней не открыты более далекие горизонты, будет неплохо, если отношение к прошлому и особенно к античности будет определяться не исходя из универсального понятия истории, а всецело на основе содержания и фактов...
Что до меня, то я, к сожалению, всегда прохладно относился к Ренессансу и классицизму, они мне чужды, я действительно не в состоянии сделать их своим достоянием... Не является ли в наши дни знакомство с другими странами и внутреннее соприкосновение с ними гораздо более важным для нас элементом образования, чем античность? Разумеется, в обоих случаях имеется возможность обывательского подхода, но, может быть, в наши задачи и входит превращение встречи с другими народами и странами в подлинно пережитый момент образования, выходящий за пределы политики, экономических вопросов и снобизма. Тем самым можно было бы использовать до сих пор невостребованный источник для нашего образования и вместе с тем подключиться к древней европейской традиции.
Только что через радиосеть снова поступило сообщение о приближении крупных авиационных соединений. Отсюда можно было хорошо наблюдать оба последних дневных налета на Берлин. На безоблачном небе были видны армады самолетов, оставлявших за собой белый след; зенитный огонь был довольно интенсивен. Вчера тревога продолжалась два с половиной часа, т. е. дольше, чем ночью. Сегодня небо покрыто облаками... Вот завыла сирена, и я вынужден оставить письмо, продолжу после.
Налет опять длился 2 часа, «бомбометание во всех районах города»,—как сказано по радио.За месяцы пребывания здесь я был свидетелем того, насколько сильно люди еще верят в «сверхъестественные вещи». Самыми распространенными являются три идеи, частично проявляющиеся в суеверных обычаях: 1) «Подержи за меня большой палец»—слышишь здесь по сто раз в день; сочувственным мыслям, таким образом, приписывается некая сила; в тяжелые минуты человек не хочет оставаться в одиночестве, пусть и незримо, но кто-то ему сочувствует. 2) «Не каркай», и «держись за дерево»—каждый вечер слышишь эти возгласы, когда кто-то хочет обсудить вопрос, «прилетят они сегодня или нет»; это воспоминание о Божием гневе на человеческое превозношение есть метафизическое, а не только моральное основание для смирения. 3) «У каждого своя судьба», и как следствие—каждый должен оставаться там, куда поставлен. Интерпретируя с христианских позиций, можно было бы найти в этих трех моментах воспоминание о заступничестве и общине, о гневе и милосердии Бога, о божественном промысле. К последнему можно отнести часто употребляемое здесь выражение: «Не знаешь, на что это сгодится?!» Что полностью отсутствует, на мой взгляд, так это всякие эсхатологические реминисценции. Или у тебя другие наблюдения?..
Уже второй раз я провожу здесь Страстную неделю. Во мне поднимается волна протеста, когда в письмах читаю фразы, где говорится о моих «страстях». Мне все это кажется профанацией. Нельзя так трагедийно представлять себе эти вещи. Для меня более чем сомнительно, что я «страдаю» сильнее, чем ты или большинство людей. Конечно, многое здесь отвратительно, но где этого нет? По-видимому, в этом пункте мы кое-что преувеличиваем и видим все в слишком уж торжественных красках. Раньше я иногда поражался, что католики очень спокойно проходят через такие ситуации. Может быть, они сильнее? Может быть, из своей истории они лучше знают, что такое страдание и мученичество, и не придают особого значения мелким неприятностям и помехам. Мне, например, кажется, что к «страданиям» безусловно относятся также и физические муки, телесная боль и т. д. Мы охотно подчеркиваем душевные страдания; но ведь как раз их-то и снял с нас Христос; кстати, в Новом Завете или в раннехристианских мартирологах я ничего не нахожу по этому поводу. Ведь все-таки большая разница, «страждет ли Церковь» или же что-нибудь случилось с одним из ее служителей. Думаю, что здесь нужны некоторые коррективы; да, честно говоря, мне часто становится просто стыдно, что так много говорится о наших собственных страданиях. Нет, страдания—это что-то другое, у них какое-то совсем иное измерение, чем то, что я до сих пор испытал.
Ну, на сегодня довольно! Когда мы сможем снова побеседовать? Будь здоров, радуйся прекрасной Италии, распространяй hilaritas вокруг себя, и пусть она хранит тебя самого!..Вести о тяжелых боях неподалеку от тебя не дают мне покоя, я постоянно думаю о тебе и связываю с тобой каждое слово в Библии, каждый стих из песен. Ты, должно быть, особенно тоскуешь ... в эти дни, полные опасностей, и каждое письмо только усиливает тоску. Но разве мужчина, в отличие от людей незрелых, не обладает тем свойством, что центр тяжести его жизни всегда находится там, где он как раз пребывает, и что жажда исполнения желаний не в состоянии отвлечь его от задачи: где бы ты ни был, быть всецело тем, кто ты есть? Человек с формирующимся характером еще не вполне присутствует там, где он находится: это ему свойственно, иначе он был бы, пожалуй, просто тупицей; мужчина же всегда целостен и не бежит текущей ситуации. Его тоска, скрытая от других, всегда в какой-то степени преодолена; и чем в большей мере он преодолел ее, чтобы всецело оставаться в настоящем, тем загадочнее становится он для других, тем больше доверия он вызывает, особенно у молодых, которые еще только идут по пути, который он прошел. Желания, за которые мы слишком цепляемся, легко обедняют нас в том, чем мы должны и можем быть. И напротив, желания, которые мы постоянно подавляем ради насущной задачи, обогащают нас. Отсутствие желаний есть нищета. В моем нынешнем окружении я встречаю почти только таких людей, которые цепляются за желания, в результате чего для других они—ничто. Они ничего не слышат и неспособны на любовь к ближнему. Я думаю, что и здесь надо жить, как будто нет никаких желаний и никакого будущего, и быть всецело тем, кто ты есть.
Странно бывает, как другие люди тогда держатся за нас, что-то поверяют нам, что-то выслушивают. Я пишу обо всем этом, потому что считаю, что в настоящий момент у тебя есть огромная задача, и потому что позднее ты будешь мысленно радоваться, что выполнил ее, насколько это было возможно. Когда знаешь, что кто-нибудь находится в опасности, то хочется думать о нем всецело как о том, кто он и есть. Бывают исполненные жизни, несмотря на множество неисполненных желаний,—вот что я хотел сказать. Прости, что я то и дело делюсь с тобой такими «размышлениями», но здесь я живу в основном размышляя, а ты меня правильно понимаешь. В остальном же я должен добавить к уже сказанному, что больше чем когда-либо верю в то, что мы идем навстречу исполнению наших желаний и ни в коем случае не должны поддаваться отчаянию....Сейчас я снова неделями не заглядываю в Библию; до сих пор не знаю, как к этому относиться; при этом у меня нет чувства вины, и я знаю, что спустя некоторое время я опять с жадностью наброшусь на нее. Можно ли считать такой духовный процесс «естественным»? Я почти склоняюсь к этому. Знаешь, во времена нашей vita communis такое уже случалось; конечно, тут всегда есть опасность, что можно распуститься, но все-таки пугаться этого не стоит, а нужно спокойно положиться на то, что после нескольких колебаний магнитная стрелка снова застынет, указывая, нужное направление. Ты согласен с этим?.....На днях исполняется уже год с тех пор, как мы вместе жили и вместе работали... Любопытно, куда приведет нас будущее. Будет ли у нас когда-нибудь общий путь—например, что касается работы, мне бы очень хотелось этого—или мы должны будем довольствоваться прошлым?..