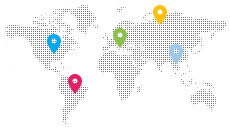1. Протестантский принцип
В своей очень небольшой работе, в которой он в тезисном виде излагает свое видение основных принципов евангелического религиозного образования в школе: «Zum Problem des Evangelischen Religionsunterricht», Пауль Тиллих формулирует свое понимание протестантского принципа следующим образом: «По-евангелически понятое христианское провозвестие содержит радикальный протест против любого своего конфессионально-церковного затвердевания. Протестантизм является не новым образом, формой (Gestalt), но новым принципом религиозного. Принципом, который ставит себя самого, как особую форму, под вопрос и тем самым делает себя возможным для любой религиозной формы»[1].
По сути дела, речь идет о том, что протестантская[2] церковь призвана быть не одной конфессией среди других конфессий и не одной церковью среди прочих церквей, но протестом против любой замкнутой и самодостаточной конфесиональности и церковности, как таковых.
Примерно то же самое имеет в виду другой знаменитый лютеранский теолог прошлого столетия Пауль Альтгауз, когда говорит об отличии евангелическо-лютеранской церковности от евангелическо-лютеранского вероисповедания: «То, что действие Реформации так ограничилось, то, что из реформаторское движение превратилось в лютеранскую церковь, все это могло привести и привело к тому, что сузилось самопонимание этой церкви; мы прочно обосновываемся в своем доме. Из посланника в пути получился некто оседлый. Вместо диаконическо-экуменического духа появляется церковный патриотизм, забота об унаследованном, наш тип, простая верность Церкви, любовь к своей лютеранской родине, желание развивать собственные особенные дары, жить по-своему. Наша общая лютеранская позиция постоянно находится в опасности быть исключительно лютеранским патриотизмом»[3]. При этом под евангелическо-лютеранской церковностью Альтгауз подразумевает конкретную форму, проявления и границы лютеранства в общехристианской среде[4]. Под лютеранским вероисповеданием же понимается не весь комплекс вероисповедных писаний лютеранской церкви, известный под названием «Книги согласия» (1580 г.), а именно основные принципы евангелическо-лютеранской духовности, ее сущность и сердцевину[5]. Лютеранская церковь по Альтгаузу есть лишь одна конкретная и в своей конкретности ограниченная и несовершенная, более того: способная к их затемнению и искажению форма для выражения этих принципов.
В сущности, можно было бы сказать, что по своему духу евангелическое движение должно было бы быть и оставаться мощным, но аморфным и неорганизованным движением внутри Средневековой церкви и не становиться еще одной церковью наряду с существующими. Таким было отчасти видение Лютера: он ни в коем случае не стремился к созданию новой церкви. Не потому, чтобы ему так дорого было видимое церковное единство, не потому также, что он был большим приверженцем западной средневековой церковной формы, а потому что ему была чужда сама мысль о том, что для чистой проповеди Евангелия обязательно требуются какие-то специальные, отдельные и конкретные формы и структуры[6]. Фактически, то, что Реформация из движения превратилась в отдельную церковную организацию, веренее целый ряд церковных организаций и конфессий, являлось необходимым злом.
Необходимым не только потому, что обсолютно аморфное и неоформленное состояние совершенно невозможно, что даже самое неорганизованное, казалось бы, движение имеет свои вполне определенные структуры, но, прежде всего, потому, что, оставаясь лишь неорганизованным движением, Реформация не смогла бы достаточно громко заявить о себе. Сам факт раскола в западном христианстве стал достаточно ярким событием, способным привлечь внимание к тому принципу, что исповедовало новое движение. Кроме того, дальнейшее самостоятельное существование выросших из движения Реформации церквей помогло им сохранить верность своему вероисповеданию, поскольку поставило внешние границы чуждым влияниям, побуждало к поиску формулировок и форм, способных наиболее эффективно выразить свой принцип. Думаю, не нужно особо говорить о тех взлетах формы, которые знала при этом лютеранская церковь, особенно в области церковной музыки и поэзии. Достаточно просто назвать такие имена как Иоганн Себастьян Бах или Пауль Герхардт.
Тем не мене, такое оформление было злом, поскольку протестантизм стал теперь больше чем протестом против церковности, но и сам превратился в определенную форму церковности со своим набором вероучений, церковно-правовых норм, богослужебных и около-богослужебных традиций, этических идеалов и так далее. Протестантская идентичность стала не идентичностью протеста, а идентичностью определенной формы церковности.
Вполне понятно и оправданно, что извне протестантизм вообще и Евангелическо-лютеранская церковь в частности воспринимаются как именно такое самостоятельное и конкретное оформление религиозной жизни, как определенное проявление церковности. Прискорбно другое, а именно то, что и внутри лютеранской церкви постепенно развились подобные же взгляды на протестантизм, как новую форму христианской церковности: безусловно, лучшую, может быть даже, единственно верную ее форму. В таких кругах лютеранство часто воспринимается, как слегка реформированный или очищенный от вредных напластований средневековый Католицизм. Лютеранство видится как легкое видоизменение и своего рода редукция католической церковности. Именно в этом ключе и толкуются тогда четыре знаменитых sola Лютеранства: solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura («только Христос», «только благодать», «только вера» и «только Писание») - как необходимая минимизация и очищение средневековой теологии и церковности от всего лишнего.
На самом же деле эти четыре лозунга являются выражением одного-единственного принципа: они означают не преобразование церковной формы, но радикальный отказ от церковности как таковой, радикальный отказ придавать хоть сколько-нибудь весомое значение формам и организациям церковной жизни, радикальную сосредоточенность вовне. Solus Christus - только во Христе дается спасение, без всякого церковного посредничества. Только на Христе должно быть сконцентрированно наше упование, а не на тех внешних формах, в которых это упование может проявляться и выражаться. Sola gratia и sola fide - не нашими делами и не нашими организационными формами устанавливаются наши отношения с Богом, но единственно Его собственной независимой и суверенной милостью, которая воспринимается нашей личной верой. Sola scriptura - не церковное вероучение, не церковные догмы и порядки являются решающим авторитетом, а священное Писание, то есть то, что не находится под контролем Церкви, то что существует независимо от всех церковных течений и форм.
Таким образом, остается повторить, что протестантизм это не протест против одной конкретной церковной формы в пользу другой, более чистой и совершенной, но, так сказать, оформленный протест против всякой формы, которая явлалась бы для себя хоть в какой-то степени самоценностью. В этом смысле нужно понимать знаменитое определение из седьмого артикула Аугсбургского Вероисповедания: «Церковь - это собрание святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляются Таинства. И для истинного единства Церкви достаточно согласия относительно учения о Евангелии и отправлении Таинств. Нет нужды в том, чтобы человеческие традиции, то есть обряды или церемонии, учрежденные людьми, были везде одинаковыми»[7]. Церковь не там, где организованная жизнь христиан принимает определенную форму: будь то определенное вероучение, определенная литургическая традиция или определенный институт, скажем, исторический епископат. Церковь там, где христиане обращаются вне себя самих и смотрят единственно на Христа.
Церковь, как таковая, не может быть поэтому объектом нашей веры в полном смысле этого слова. Церковь - это сообщество верующих, место, где верят, а не то, во что верят. Ярким образом такой подход проявляется, например, в «Догматике» Вольфганга Трильгааза, где экклезиология, учение о Церкви помещается в качество «эпилегомена», то есть «послесловия» и изъято таким образом из основного догматического корпуса[8].
С не меньшим пафосом высказывается и знаменитый реформатский теолог Карл Барт: «Зачастую вся церковная жизнь может вызывать отвращение. Кому незнакомо такое угнетенное состояние, кто чувствует себя просто хорошо в церковных стенах, тот еще не увидел подлинную динамику всего этого дела. В церкви можно быть только как птица в клетке, то есть постоянно наталкиваться на прутья этой клетки. Ведь на карту поставлено намного больше, чем наша смесь из проповеди и литургии»[9].
Поэтому протестантский принцип обладает огромным критическим потенциалом. Но - обратим внимание - это протест, направленный, прежде всего, против самих протестантских церквей. Тиллих пишет: «Реформация и ранний протестантизм являлись радикальным прорывом принципа против формы. Затем последовала сомнительная попытка дать этому принципу новую форму через упрощение формы католической»[10]. Соответственно, всякое закоснение в форме должно подвергаться протесту и осуждению. Никакая церковь не может быть признана самоценностью. Таким образом, протестантизм в своей глубинной сущности - это не новая форма церковности, а протест против церковности вообще, протест во имя Христа и Бога.
И если мы вспомним, что именно конкретные формы церковности, как правило, разделяют христиан, то нам станет понятным и огромный положительный потенциал этого принципа. Он отказывается признавать абсолютность такого рода разделений. Он становится, по сути дела, протестом против них. Но в своем протесте он видит и неизбежность существования таких форм, поэтому они становятся объектами «вынесения», «претерпения», то есть толерантности. Вспомним еще раз приведенную в начале цитату из Тиллиха: протестантизм не только ставит любую религиозную форму под вопрос, но и делает себя возможным для любой религиозной формы. Самые разные религиозные формы в христианстве, самые разные формы церковности, будучи сами по себе ограниченными и несовершенными, имеют все же право на существование, поскольку служат выражением Евангелия, то есть вести о Христе как откровения Божьего.
И все же нельзя забывать о том, что единственным залогом такой толерантности служет именно протест против всякой самодостаточной церковности. Именно протест против ограниченных и замкнутых на себе церковных форм, протест во имя того, что лежит за их пределами, создает возможность толерантного отношения к ним.
{mospagebreak}
2. Теология креста и миссия
Только что было произнесено слово «откровение». Это понятие укажет путь наших дальнейших размышлений. Ведь в своем протесте протестантский принцип идет еще дальше. Это не только протест против конкретных форм церковности в пользу сосредоточенности на самом Боге и Его откровении. Это принцип, который с отчетливостью видит уникальный характер этого откровения, а именно: личность и дело Иисуса Христа, Его жизнь смерть и воскресение. Особенно Его смерть на кресте: «а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»[11]. Протестантский принцип поэтому - это принцип креста. Крест становится в нем единственным действенным, а потому спасительным откровением Божьим.
И это такое откровение, которое парадоксально по самой своей природе, откровение, ставящее под радикальный вопрос все наши представления о Боге и о Его проявлениях в мире.
Это было ясно уже для раннего Лютера, который видел себя проповедником theologia crucis - «теологии креста», которую он понимал как противоположность theologia gloria - «теологии славы». Сущность лютеровской теологии креста сводится к следующему: Бог не открывает себя в этом мире напрямую, но только под видом противоположного. Его любовь открывается в жестоком и кровавом событии распятия. Его могущество в бессилии распятого, Его величие в унижении Христовом. Пусты и даже гибельны всякие попытки увидеть или истолковать деяния Божьи напрямую в их кажущейся очевидности. Там, где Бог кажется особенно далек, там Он, на самом деле, ближе всего. В своих знаменитых Гейдельбергских тезисах 1518 г. Лютер пишет: «Не заслуживает называться теологом тот человек, который рассматривает невидимую сторону Бога, как если бы она была абсолютно видимой и действительно имела место (Рим. 1, 20). Тот заслуживает называться теологом, кто понимает видимые и явленные стороны Бога, рассматриваемые через страдания и крест. Теолог славы называет зло добром, а добро злом. Теолог креста называет вещи так, как они есть. Мудрость, которая видит невидимые стороны Бога в делах, как это воспринимает человек, полностью стирается, ослепляется и ожесточается»[12]. Бог не там, где мы ожидаем Его увидеть и Он действует не так, как мы этого от Него ожидаем.
Речь идет о почти невыносимых парадоксах. И сам Лютер не сумел, в конце концов, быть достаточно последовательным в такой теологии. Но все же эта теология креста дает нам почувствовать, что крест - это не просто откровение Бога, но откровение под видом сокрытости. Это откровение не приспособленное и не приспосабливаемое к нашему обычному общечеловеческому или общерелигиозному восприятию. Крест становится таким символом Божественного, который подвергает радикальной критике все остальные символы.
Однако сам по себе крест не является однозначным ответом на человеческие вопрошания. Божье откровение, прежде всего, откровение, совершившееся на кресте, остается прикосновением к тайне, а не разгадкой некой загадки. Крест - это вызов, брошенный человеку, это осуждение человеческого греха, это торжество любви, это жертва, это знак солидарности Бога с человеком. Ни одно конкретное вероучение, ни одно конкретное толкование не в состоянии исчерпать, лучше сказать: вынести, весь смысл креста. Любое, даже самое глубокое или оригинальное, толкование: от Ансельма до Рене Жирара или феминисткой теологии будет всегда лишь ограниченной и односторонней попыткой выразить его значение.
Итак, христианское откровение - это откровение в сокрытости или, иначе говоря, откровение, не исключающее сокрытость Бога, не уничтожающее сокрытость Бога, а лишь еще более подчеркивающее ее. И в этом особенность христианского откровения, откровения совершившегося в событии креста. В результате этого откровения Бог не становится нам более понятным, скорее наоборот, еще более таинственным. А это верный признак того, что мы имеем дело с подлинным откровением, потому что Бог, на самом деле, таинственен, Бог неисчерпаем и непостижим для нашего разума и для наших чувств. Всякое откровение, которое бы претендовало на то, чтобы объяснить Бога и исчерпать Его было бы поэтому ложным. Оно заменяло бы вечного и живого Бога на какого-то простого и понятного идола.
Христианское откровение поэтому невозможно изложить в виде каких-то тезисов или сформулировать в виде конкретных вероучений. Христианское откровение - это не Писание, не набор догм и не учение церкви. Христианское откровение - это живая встреча с распятым Иисусом Христом, встреча, в которой мы, образно говоря, ощущаем переворачивающее все внутри нас, захватывающее нас прикосновение непостижимого Бога.
В этом смысле, крест остается, действительно, радикальной постановкой под вопрос всякой конечной формы, в которой выражается или объясняется Бог и Его отношение к человеку. Подлинно протестантская теология должна знать этот принцип и непрестанно применять его ко всякому вероучению и благочестию и, прежде всего, к собственному вероучению и благочестию, как одной из таких ограниченных форм.
Протестантское сознание - это сознание полной беззащитности перед страшной и великой тайной Божьей. Это предстояние перед непостижимым и святым Богом один на один без всякой внешней защиты и посредничества, в протесте против всякой защиты и посредничества, - будь то истинное вероучение, истинная церковь, истинная этика или даже Библия с изложенной в ней информацией и предписаниями. Символом такого предстояния и является крест. Никакая протестантская теология, благочестие или церковность не могут и не должны понимать себя как своего рода укрытие от такой встречи с крестом, такой встречи с Богом, или смягчение ее, но лишь как средство выразить всю радикальность такой встречи.
Протестантский принцип - это, таким образом, не просто радикальное устремление вовне всякой церковности, но это «вне» является к тому же крестом, то есть радикальной постановкой под вопрос любых религиозных символов не только с формальной, но и содержательной точки зрения.
Ни одно содержательное изложение христианской веры поэтому не может быть признанно полным и совершенным. Вера раскрывается в динамике, парадоксе, противоречии - в протесте.
Именно вследствие этого необходим постоянный диалог между христианами как внутри одной конфессии или церкви, так и принадлежащих к различным церквям и конфессиям, как обмен различными толкованиями и изложениями христианской веры, как взаимодополнение и взаимообогащение. Однако важно понять следующее: речь при этом не идет о постепенном приближении к полноте истины, но о ее осуществлении в ходе самого процесса коммуникации, процесса диалога, как такового. Важен, в конечном счете, не информативный или содержательно-когнитивный результат подобного диалога, а само его, диалога, наличие, как средства все большего углубления в христианскую весть, как способ, которым весть о кресте все глубже проникает в его участников. Иными словами: такой диалог важен и нужен, потому что он заставляет постоянно заново пропускать через себя эту весть, причем с разных точек зрения и исходных позиций.
Наличие разных точек зрения и разных стилей благочестия среди христиан представляется, таким образом, неизбежным, с одной стороны (поскольку никто не в силах исчерпать тайны креста, каждый может подходить к ее описанию лишь односторонне), с другой стороны, также необходимым и желательным, поскольку именно оно служит предпосылкой живого, заинтересованного и вместе с тем критического диалога, в котором весть о кресте все более превращается из некой внешней, определенным образом сформулированной информации во внутреннюю реальность, во внутреннюю захваченность его участников событием креста.
Итак, радикальная постановка под вопрос, как всякой церковности, так и всяких символов Божественного в протестантизме приводит к сознанию собственной ограниченности и, соответственно, к необходимости диалога, коммуникации с христианами, придерживающихся других убеждений и живущих в других внешних формах. Толерантность в протестантизме вырастает из протеста против всякой ограниченной формы, но и является, тем самым, готовностью принять всякую ограниченную форму, как определенное средство выражения христианской истины[13]. Понимаемая таким образом толерантность становится не просто неким приложением к протестанской версии христианства, но прямым ее следствием и последовательной реализацией протестантского принципа.
Однако нам не обойтись и без более решительной постановки вопроса. Можно ли, исходя из описанного выше протестантского принципа, ограничиться лишь внутрихристианской толерантностью, то есть, сознавая все несовершенство внешних форм, прежде всего, своей собственной формы, все же быть терпимым к тем, кто идентифицирует себя с ними, поскольку и в этих формах проявляется единственно важное - Евангелие, весть о кресте Христовом? Если наша толерантность будет обращена только на тех, кто оказывается причастным этой вести, - в силу их причастности к ней, то отношение к представителям других религий может быть определено только одним словом: «миссия». При этом трудно что-либо возразить против самого этого слова, поскольку миссия, как распространение Евангелия, вести об Иисусе Христе, является, должна являться модусом христианского существования. Вопрос тогда состоит в том, можно ли, и, если можно, то как, увязать миссию с понятием толерантности? Иначе говоря: может ли миссия быть толерантной? На первый взгляд, мы имеем здесь дело с полной несовместимостью этих двух понятий. Это отчетливо видно, например, из одного из новейших очень «мягких» определений понятия миссии, которое дает Готтфрид Бракемейер: «Миссия - это свидетельство о Евангелии в виде приглашения к вере и к участию в жизни такой общины, которая знает о своем долге воздавать честь Богу и стремиться к миру на земле»[14]. Даже в таком очень деликатном определении миссии подразумевается, что она является «приглашением» к участию в жизни христианской общины. Насколько же такое приглашение совместимо с понятием толерантности?
Я не хочу вдаваться здесь в подробное рассмотрение классических и современных миссиологических концепций. Ограничусь лишь несколькими важными для меня положениями. Основа основ: большим заблуждением будет проводить границу между христианами и нехристианами, видя их основное различие в том, что первые обладают Евангелием, а вторые нет. Никто из христиан не обладает Евангелием, то есть вестью о прощении грехов исключительно по милости Божьей, каждый должен снова и снова получать его извне, снова и снова слышать его. Евангелие явяется не статической, но динамической реальностью. В этом смысле различия между христианами и нехристианами нет. Различия нет и в том, что и те и другие, сами по себе, в равной степени являются в глазах Божьих заслуживающими проклятия грешниками. Соответственно, нет принципиального различия между проповедью Евангелия внутри и вне христианской церкви. Для провозвестия Евангелия таких «внутри» и «вне» просто не существует. В этом смысле христиане не имеют никакого превосходства над нехристианами. Их объединяет одна и та же потребность в Евангелии. Поэтому миссия - это не то, что осуществляется, так сказать, сверху вниз. Она является братским общением людей нуждающихся в слове о кресте.
Поэтому мы не можем и не должны принципиально разделять диалог между христианами, описанный выше, с тем диалогом, который может и должен вестись между христианами и представителями других религий. И потому, если в первом случае мы говорили об открытости и искренней заинтересованности такого диалога, то это должно действовать и во втором случае.
Здесь я, следом за моим учителем, профессором Германом Брандтом определю миссию, как импульс к изменению (Impuls zur Änderung)[15]. Это предложенное им сознательно в такой минималистичной форме определение, позволяет нам, однако, увидеть сущность миссии с несколько неожиданной для многих из нас стороны. Импульс к изменению - это импульс, направленный в обе стороны. Миссия, таким образом, это искренний и заинтересованный диалог с обеих сторон, диалог, в ходе которого обе стороны готовы воспринимать друг друга и учиться друг у друга. Миссия подразумевает тогда умение с нашей стороны слушать и учиться у других. Вовлекая людей с принципиально другими убеждениями в диалог о Евангелии, мы не только получаем возможность затронуть их этой вестью, но и быть заново затронуты этой вестью сами, причем, может быть, с самой неожиданной точки зрения. Но для этого требуется, чтобы другой был другим, требуется его инаковость, создающая основу для подлинной и плодотворной коммуникации между нами.
Исходя из всего этого, целью миссии не может быть обращение людей в какую-то конкретную форму религиозной жизни, в какую-то конкретную форму христианства, приведение их в какую-то конкретную церковь, но «лишь» их и наша затронутость Евангелием, независимо от того, в каких формах она может проявиться. Поэтому на поставленный в начале раздела вопрос можно ответить, что миссия может и должна быть толерантной и даже более того: искренне заинтересованной в инаковости других. Эта инаковость может помочь нам снова и снова открывать для себя инаковость Евангелия, вести о Христе, котору мы сами по себе не способны до конца понять и вместить, но которую так хотим втиснуть в установленные нами самими рамки.
Подводя итог нужно отметить следующее: согласно типологии Экехарта Штёве[16] можно говорить о трех основных видах толерантности: прагматической, консенсусной и диалоговой. Исходя из сказанного доселе, становится понятным, что возможная и желаемая в протестантизме толерантность является, прежде всего, толерантностью диалоговой. Причем она, как показано выше, не является чем-то привходящим или неким побочным принципом, но вытекает из самой сущности, из самой сердцевины протестантского сознания.
Важным, однако, является то, что глубинной основой этой толерантности является не просто сознание человеческой ограниченности и соответственное гармонизирующее стремление к взаимообогащению и взаимообмену между носителями разных точек зрения, а именно страстный и радикальный протест, проявляющийся в троякой форме: против всякой церковной и религиозной формы, против любых ограниченных попыток выразить содержание откровения, против самого религиозного человека, как проклятого и потерянного грешника. К толерантности этот протест ведет, поскольку он в равной степени направлен как на чужие, так и на свои собственные формы церковности, вероучение и самих верующих. Таким образом, толерантность в протестантском, в лютеранском понимании - это солидарность и диалог находящихся под радикальным протестом.
Примеания:
[1] Tillich, Paul. Zum Problem des Evangelischen Religionsunterricht // Tillich, Paul. Die Religiöse Substanz der Kultur: Schriften zur Theologie der Kultur. Gesammelte Werke Band IX. - Stuttgart. 1967, c. 233.
[2] Слово «протестантский» я использую здесь в отношении традиционных церквей Реформации, к которым, прежде всего, отношу евангелическо-лютеранскую церковь. Всевозможные так называемые «неопротестантские», харизматические и т.п. движения я в это понятие сознательно не включаю. Это дает мне возможность использовать слова «лютеранский» и «протестантский» в синонимичном смысле.
[3] Althaus, Paul. Die ökumenische Bedeutung des lutherischen Bekentnisses // Althaus, Paul. Um die Wahrheit des Evangeliums: Aufsätze und Vorträge. - Stuttgart. 1962. c. 76.
[4] Там же, с. 78.
[5] Там же, с. 79.
[6] Здесь можно указать на описание этих воззрений Лютера, данных Хейко Оберманом в Oberman, Heiko A. Luther: Mensch zwischen Gott und Teufel. - Berlin. 1982, c. 269-285. При этом необходимо учитывать - и Оберман подчеркивает это - что Лютер воспринимал Реформацию, как признак наступления последних времен и уже поэтому вопрос о конкретных формах церковной организации своих последователей представлялся ему крайне малозначительным.
[7] Русский текст из: Книга согласия. Москва 1998. Оригинальный текст см. BSLK, 61.
[8] См. Trillhaas, Wolfgang. Dogmatik. - Berlin. 1962, c. 502-560.
[9] Барт Карл. Очерк догматики с. 256.
[10] Tillich. Zum Problem des Evangelischen Religionsunterricht, c. 234.
[11] 1 Кор. 1, 23.
[12] Cм. русский перевод Гейдельбергских тезисов в Ежегодник Теологической семинарии ЕЛЦ 2004-2005. - Новосаратовка. 2005. с. 141-186.
[13] Речь в данном случае не идет и не может идти о следовании так называемой «теории ветвей», с которой очень часто и ошибочно отождествляется протестантское понимание раздробленности Церкви. Эта теория говорит о неполноценности каждой отдельной конфессии. Она утверждает, что лишь все сообщество христиан в целом является подлинной христианской Церковью. Эта теория, однако, не замечает того, что наше внешнее несовершенство или ограниченность не могут препятствовать реализации истинной Церкви в каждом конкретном христианском сообществе. Там, где проповедуется Евангелие (и преподаются Таинства, как одна из форм евангельского провозвестия) - там истинная Церковь во всей своей полноте, ибо там осуществляется связь человека со Христом.
[14] Brakemeier, Gottfried. „Zehn Gebote" für eine missionarische Kirche: Überlegungen und Anstöße // Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes. Folge 53. - Erlangen. 2006, c. 19.
[15] См. Brandt, Hermann. Aufgaben der Missionswissenschaft heute // Brandt, Hermann. Vom Reiz der Mission: Thesen und Aufsätze. - Neuendettelsau. 2003, c. 38.
[16] См. Stöve Eckehart. Toleranz // Theologische Realenziklopädie (TRE) 33, 647.