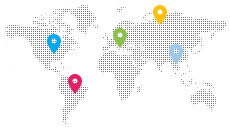Предисловие
Протестанский мыслитель Пауль Тиллих, близкий к экзистенциализму и “диалектической теологии”, известен нашему читателю прежде всего как теолог и культуролог, а не как собственно философ. Между тем в философии XX столетия немногие мыслители – Хайдеггер, Сартр, Жильсон и Сантаяна и некоторые другие – пытались столь основательно строить онтологию.
Понятие Бога у Тиллиха – теологический синоним категории Бытия, понимаемого в духе позднего Шеллинга и Хайдеггера как основание мира. Это бытие как таковое, невыводимое из бытия вещей и несводимое к нему, необъяснимое в категориях субъектно-объектной структуры. Бытие изначальнее всяких разделений, в том числе и разделения на имманентное и трансцендентное. Бытие или Бога Тиллих в духе поздней схоластики называет “Самим-Бытием” (Being Itself, Esse ipsum). Как и Хайдеггер, Тиллих считает, что бытие человека – единственный ключ к Бытию как таковому. Экзистенциальный страх человека, его “забота” о смысле Бытия – свидетельство того, что человек внутренне с Бытием связан, но отчужден от него в своем земном существовании. Религиозность есть состояние “предельной заботы” (ultimate concern) о безусловном смысле Бытия. По этой причине религиозность признается Тиллихом фундаментальной характеристикой человека. В связи с этим задачу теологии он видит в корреляции вечных экзистенциальных “вопросов” человека и “ответов”, содержащихся в христианском Откровении. Это, по мнению Тиллиха, должно способствовать преодолению отчуждения человека от Бога, мира и самого себя.
Всеобъемлющая по замыслу и проблематике трехтомная “Систематическая теология” – главный философский труд Тиллиха. Ее первый том, впервые опубликованный в Чикаго в 1951 г., содержит “онтологический” раздел “Бытие и вопрос о Боге”, отдельные, с нашей точки зрения наиболее важные, параграфы которого мы предлагаем читателю.
Transl. from:
Tillich P. Systematic Theology (Three volumes in one). Volume one. University of Chicago Press, 1971. P. 163-156, 186-192, 202-211.
Систематическая теология. Том I, часть II, раздел I.
“Бытие и вопрос о Боге”: Введение,
параграфы 6, 7, 8, 10, 11, 12
часть II
1. Бытие и вопрос о Боге
Введение: Вопрос о бытии
Основной вопрос теологии – это вопрос о Боге. Бог есть ответ на вопрос, заключенный в бытии. Проблема разума и откровения вторична по сравнению с проблемой бытия и Бога, хотя рассматривали мы ее раньше. Как и все остальное, разум обладает бытием, соучаствует в бытии и логически подчинен бытию. Следовательно, в анализе разума и вопросов, заключенных в его экзистенциальных конфликтах, мы вынуждены были предвосхищать те понятия, которые выводятся из анализа бытия. В нашем движении от взаимосвязи разума и откровения к взаимосвязи бытия и Бога мы идем к большей глубине и основательности: в традиционных терминах – идем от эпистемологического вопроса к онтологическому. Онтологический вопрос состоит в следующем: что есть бытие как таковое? Что оно такое само по себе, не отдельное сущее и не совокупность сущих, не конкретное и не абстрактное, но нечто всегда присутствующее в мышлении, когда мы говорим, что нечто есть? Философия ставит вопрос о бытии как таковом. Она исследует все, что есть, поскольку оно есть. Это ее основная задача, и данный ею ответ определяет анализ всех конкретных форм бытия. Такова “первая философия”, или, если еще возможно употреблять этот термин, “метафизика”. Поскольку некоторые значения понятия “метафизика” делают его употребление рискованным, более предпочтительным оказывается понятие “онтология”. Онтологический вопрос, вопрос о Самом-Бытии, вызывается “метафическим шоком” – шоком возможного небытия. Этот шок часто выражается в виде вопроса: “Почему существует нечто? Почему не существует ничто?” Но такая форма вопроса бессмысленна, поскольку любой возможный ответ зависит от такого же вопроса в бесконечной регрессии. Мысль должна начинаться с бытия, она не может обойти его, как показывает сама форма вопроса. Если мы спрашиваем, почему нет (т.е. не есть) ничто, то тем самым приписываем бытие даже небытию. Мысль основана на бытии, и свое основание она покинуть не может; однако мышление может представить себе отрицание всего, что есть, и описать природу и структуру бытия, дающую всему, что есть, мощь сопротивления небытию. Мифология, космология и метафизика ставили вопрос о бытии скрыто и явно и старались ответить на него. Это предельный вопрос, хотя в основе своей он является скорее выражением человеческого существования, нежели логически сформулированным вопросом. Когда переживается это состояние существования и ставится этот вопрос, все сущее исчезает в бездне возможного небытия; исчезает даже Бог, если он не Само-Бытие. Но если все отдельное и определенное исчезает в свете предельного вопроса, то как же возможен ответ? Разве онтология в таком случае не сводится к пустой тавтологии о том, что бытие есть бытие? Разве понятие “структура бытия” не является противоречием в терминах, утверждением о том, что лежащее вне всякой структуры само обладает структурой?
Онтология возможна, потому что существуют понятия, менее универсальные, нежели бытие, но более универсальные, нежели любое другое онтическое понятие, то есть понятия, названные “принципами”, или “категориями”, или “предельными понятиями”. Человеческое сознание тысячи лет работало над их открытием, формированием и упорядочиванием. Но к единой точке зрения люди так и не пришли, хотя соответствующие понятия возникают вновь и вновь почти во всех онтологических построениях. Систематическая теология не может и не должна входить в онтологическую дискуссию как таковую. Однако она должна рассматривать эти основные понятия с точки зрения их теологической значимости. Такое рассмотрение необходимо в каждой части теологической системы, и оно может косвенно оказывать глубокое влияние на онтологический анализ. Но сфера онтологической дискуссии – это не теологическая сфера, хотя теолог должен быть хорошо с ней знаком.
Представляется возможным выделить четыре уровня онтологических понятий: (1) основная онтологическая структура, являющая собой скрытое условие онтологического вопроса; (2) элементы, конституирующие онтологическую структуру; (3) характеристики бытия, являющиеся условиями существования; (4) категории бытия и познания. Каждый из этих уровней требует особого анализа. Здесь необходимы некоторые замечания, касающиеся общего онтологического характера этих уровней.
Онтологический вопрос предполагает вопрошающего субъекта и объект, о котором ставится вопрос; онтологический вопрос предполагает субъектно-объектную структуру бытия, которая в свою очередь, предполагает структуру “самость-мир” как основное “сочленение” бытия. Самость обладает миром, к которому она принадлежит; такая в высшей степени диалектическая структура предшествует другим структурам как логически, так и эмпирически. Анализ этой структуры должен быть первым шагом в решении любого онтологического вопроса. Второй уровень онтологического анализа имеет дело с элементами, конституирующими основную структуру бытия. Они образуют полярность основной структуры, и именно полярность делает их только принципами, а не общими понятиями высшего порядка. Можно представить себе сферу природы помимо или вне истории, но не существует сферы динамики без формы или индивидуальности без универсальности. Верно и обратное. Каждая из сторон полярности значима лишь постольку, поскольку связана логическим следованием с противоположным полюсом. Три важнейших пары элементов создают основную онтологическую структуру: индивидуальность и универсальность, динамика и форма, свобода и судьба. В этих трех полярностях первый элемент выражает отношение бытия к самому себе, его мощь быть чем-то для самого себя, а второй элемент выражает “связанность” бытия с чем-то еще, его бытие как части вселенского бытия.
Третий уровень онтологических понятий выражает способность бытия к существованию и различие между сущностным и экзистенциальным бытием. Как в переживании, так и в анализе бытие обнаруживает двойственность сущностности и экзистенциальности. Не существует онтологии, которая могла бы игнорировать эти два аспекта, будь они гипостазированы в виде двух “царств” (Платон), или соединены в полярном отношении потенции и акта (Аристотель), или противостоят друг другу (Шеллинг1 , Кьеркегор, Хайдеггер), или выводятся одно из другого: либо существование из сущности (Спиноза, Гегель), либо сущность из существования (Дьюи, Сартр). Во всех этих онтологических построениях обнаруживается двойственность сущность и экзистенциального бытия и ставится вопрос об отношении сущностного и экзистенциального бытия друг к другу и к Самому-Бытию. Ответ же зависит, в свою очередь, от полярности свободы и судьбы на втором уровне онтологического анализа. Однако свобода как таковая не является основанием существования, а основанием является скорее свобода в единстве с конечностью существования. Конечная свобода есть поворотный пункт от бытия к существованию. Следовательно, анализ конечности в ее полярности с бесконечностью и в ее отношении к свободе и судьбе, сущности и существованию, – этот анализ есть задача онтологии на третьем уровне.
Четвертый уровень онтологических понятий имеет дело с теми понятиями, которые традиционно назывались категориями, то есть основными формами мышления и бытия. Они причастны к природе конечного бытия и могут быть названы структурами конечного бытия и мышления. Определять их количество и построение – одна из бесконечных задач философии. С теологической точки зрения должны быть проанализированы четыре основных категории: время, пространство, причинность и субстанция2 . Категории, подобные количеству и качеству, не имеют определенного теологического значения и не будут специально обсуждаться. К другим же понятиям, часто именуемым категориями, – например, к движению и покою, единству и множеству, мы скрыто обращаемся на втором уровне анализа: к движению и покою – в связи с динамикой и формой, к единству и множеству – в связи с индивидуальностью и универсальностью. Полярный характер этих понятий ставит их на уровень элементов основной онтологической структуры, а не на уровень категорий. И наконец, следует сказать, что две из трансценденталий (transcendentalia) схоластической философии, истина и благо (verum, bonum) обычно сопоставляются с бытием и единством (esse, unum), а не принадлежат чистой онтологии, поскольку они значимы только в отношении к субъекту ценностей. Их онтологическое основание, однако, необходимо обсудить в связи с дуализмом сущности и существования. Хотя цель данного раздела теологической системы – вопрос о Боге как вопрос, заключенный в бытии, понятие конечности является центром этого анализа, поскольку именно конечность бытия ведет нас к вопросу о Боге.
Однако вначале необходимо сказать кое-что об эпистемологическом характере всех онтологических понятий. Онтологические понятия априорны в строгом смысле этого слова. Они определяют природу опыта. Они присутствуют всегда, когда нечто воспринимается. Но априорность не означает, что онтологические понятия познаются прежде опыта. Если бы это было так, их невозможно было бы критиковать. Они являются, напротив, результатом критического анализа опыта. Априорность также не означает, что онтологические понятия создают статическую и неизменную структуру, которая, будучи однажды открытой, навсегда сохраняет ценность. Структура опыта могла измениться в прошлом и может измениться в будущем, но эту возможность не следует использовать как аргумент против априорности характера онтологических понятий.
Априорными являются те понятия, которые предполагаются во всяком реальном опыте, поскольку они конституируют саму структуру опыта. Условия опыта априорны. Если эти условия изменяются – а вместе с ними изменяется структура опыта – тогда другая совокупность условий делает опыт возможным. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока имеет смысл говорить об опыте вообще. Покуда существует опыт в любом определенном смысле слова, существует и структура опыта, которую можно познать в процессе самого опыта и критически проанализировать. Представляется вполне оправданным стремление “философии процесса”3 превратить в процессе все, что кажется статическим; однако ее стремление превратить структуру процесса в процесс абсурдно. Последнее означало бы, что осознаваемое нами как процесс заменяется чем-то еще, природа чего пока неизвестна. А между тем, всякая “философия процесса” имеет свою онтологию, которая по сути “априористична”.
Это также и аргумент против исторического релятивизма, отрицающего возможность онтологической или теологической доктрины человека с помощью следующих доводов: поскольку природа человека изменяется в процессе истории, то невозможно утверждать что-либо онтологически и теологически определенное в отношении этой природы; и, поскольку доктрина человека (т.е. его свободы, его конечного бытия, противоречий его существования, его исторического творчества) есть введение в онтологию и основная точка отсчета теологии, то невозможны ни онтология, ни теология. Невозможно было бы что-то возразить подобному критицизму, если бы онтологическая и теологическая доктрины человека имели дело с неизменной структурой, названной “природой человека”. Хотя неизменность “природы человека” нередко провозглашалась, все же она не необходима. Природа человека изменяется в истории. Структура бытия, обладающая историчностью, предлежит всем историческим изменениям. Эта структура есть предмет онтологической и теологической доктрины человека. Исторический человек происходит от существ, не имевших истории, и, возможно в будущем возникнуть существа, происходящие от исторического человека и не имеющие истории. Это означает, что животные и сверхлюди не являются предметом доктрины человека. Онтология и теология имеют дело с историческим человеком, как он дан в опыте настоящего и в исторической памяти. Антропология, преодолевающая эти границы – эмпирически в прошлое и спекулятивно в будущее, не является доктриной человека. Это учение о биологическом преддверии или биологическом продолжении того, что на особой стадии всеобщего развития было, есть и, возможно, будет историческим человеком. В этом случае, как и в любом другом, онтология и теология устанавливают относительную, а не абсолютно статичную априорность, преодолевающую противоположность абсолютизма и релятивизма, угрожающую разрушением того и другого.
Это вполне согласуется с мощной традицией классической онтологии и теологии, представленной волюнтаризмом и номинализмом. Еще до Дунса Скотта теологи отказывались от “реалистических” попыток свести Бога к статической структуре бытия. В учении Дунса Скотта и во всей онтологии и теологии, на которую оно так или иначе повлияло, – вплоть до Бергсона и Хайдеггера – ощущается элемент предельной неопределенности в основании бытия. Абсолютная мощь (potestas absoluta) Бога – это постоянная угроза всякой данной структуре вещей. Божественная мощь губит всякий абсолютный априоризм, но не снимает онтологию и относительно априорные структуры, с которыми имеет дело онтология.
С. Бытие и конечность
6. Бытие и небытие
Вопрос о бытии порождается “шоком небытия”. Только человек может задавать онтологический вопрос, потому что он один способен заглянуть за пределы собственного бытия и всякого другого бытия. Рассматриваемое с точки зрения возможного небытия, бытие есть таинство. Человек способен принять эту точку зрения, потому что он свободен переступить пределы всякой данной реальности. Человек не ограничен “бытийностью”, он способен взглянуть в лицо “ничто”, он может ставить онтологический вопрос. В процессе этого он также должен задавать вопрос о том, что творит таинство бытия; он должен представить себе таинство небытия. Оба эти вопроса были изначально неразрывно связаны в человеческом мышлении – сначала в мифологических, затем в космологических и, в конце концов, в философских терминах. Наиболее впечатляющим представляется то, каким образом древнегреческие философы, и в особенности Парменид, сражались с проблемой небытия. Парменид полагал, что, говоря о небытии, мы уже тем самым превращаем его в некий вид бытия, что противоречит его сути как отрицанию бытия. Следовательно, он исключает небытие из разумного мышления. Но таким образом он представил сферу становления непостижимой и пробудил к жизни атомистическую концепцию, которая идентифицирует небытие и пустое пространство, придавая ему некий статус бытия. Какой же вид бытия следует приписать небытию? Этот вопрос никогда не переставал зачаровывать и раздражать философский ум.
Тому, кто пытается избежать вопроса о небытии, приходится выбирать один из двух путей: логический или онтологический. Можно вопрошать, а не является ли небытие чем-то большим, нежели содержание логического суждения – суждения, в котором отрицается реальное или возможное утверждение. А можно утверждать, что небытие есть негативное суждение, лишенное онтологического значения. К этому следует добавить, что всякая логическая структура, являющаяся чем-то большим, нежели игрой с возможными отношениями, коренится в онтологической структуре. Сам факт логического отрицания предполагает тип бытия, способный выйти за пределы непосредственно данной ситуации через ожидание того, что, может быть, и не исполнится. Предвкушаемое событие не происходит. Это означает, что суждение, касающееся ситуации, было ошибочным; условия, необходимые для того, чтобы ожидаемое событие произошло, не существовали. Обманувшись, ожидание различает бытие и небытие. Но как такое ожидание возможно в первом случае? Какова структура этого бытия, способного выходить за пределы данной ситуации и впадать в заблуждение? Ответ состоит в том, что человека, а он и есть это бытие, следует отделить от его бытия так, чтобы он смог посмотреть на это бытие как на что-то чуждое и сомнительное. И такое отделение действительно случается, потому что человек причастен не только бытию, но и небытию. Поэтому сама структура отрицательных суждений доказывает онтологический характер небытия. Если человек непричастен небытию, то невозможны отрицательные суждения, а по сути дела невозможны и любые другие суждения. Таинство небытия невозможно объяснить, превращая его в вид логического суждения. Онтологическая попытка избежать таинства небытия последовательно приемлет стратегию, суть которой заключена в стремлении отнять у небытия диалектичность. Если бытие и ничто абсолютно противоположны, небытие в любом случае исключено из бытия; да и вообще все исключено, кроме самого бытия (т.е. весь мир исключен). Не может быть мира, если нет диалектического участия небытия в бытии. И вовсе не случайно, что исторически недавнее возрождение онтологического вопроса следует философии досократиков и что постоянно подчеркивается значение проблемы небытия4 .
Таинство небытия требует диалектического подхода. Гениальность греческого языка создает возможность отделить диалектическое понятие небытия от недиалектического, называя первое me on, а второе – ouk on. Ouk on – это “ничто”, которое не имеет никакого отношения к бытию; me on – “ничто”, относящееся диалектически к бытию. Платоновская школа отождествляла me on с тем, что еще не есть бытие, но может стать бытием, если соединится с сущностью или идеей. Таинство небытия не было, однако, устранено, поскольку, несмотря на его “ничтойность”, небытию приписывалась сила сопротивляться полному единению с идеями. Me – онтическая материя платонизма являет собой дуалистическую стихию, которая обосновывает все язычество и оказывается предельным основанием трагического понимания жизни.
Христианство отвергло me – онтическое понятие материи на основании доктрины творения из ничто (creatio ex nihilo). Материя не является вторичным принципом в дополнение к Богу. Ничто (nihil), из которого Бог творит – это ouk on, недиалектическое отрицание бытия. И все-таки христианские теологи вынуждены были обратиться к диалектической проблеме небытия. Когда Августин и многочисленные теологи и мистики вслед за ним называли грех “небытием”, они сохранили и остатки платоновской традиции. Утверждая это, они не подразумевали, что грех не имеет положительного онтологического статуса, хотя иногда они описывали грех в терминах сопротивления бытию или искажения бытия. Доктрина тварности – другое положение учения о человеке, в котором небытию придается диалектический характер. Бытие, сотворенное из ничто, подразумевает необходимость возвращения к ничто. Клеймо происхождения из ничто лежит на каждом творении. По этой причине христианство вынуждено было отвергнуть учение Ария о Логосе как высшем из творений. Как творению ему не должна быть присуща вечная жизнь. И по этой же причине христианство должно было отвергнуть доктрину естественного бессмертия и вместо этого придерживаться учения о вечной жизни, данной Богом как Самим-Бытием.
Третье положение, в котором теологи должны были столкнуться с проблемой небытия – доктрина Бога. Следует сразу отметить, что с точки зрения истории не теология, идущая по пути отрицания (via negativa), привела христианских мыслителей к вопросу о Боге и небытии. Небытие негативной теологии означает “не быть чем-то конкретным”, быть вне любого конкретного определения. Это небытие включает в себя все, оно означает “быть всем”, оно есть Само-Бытие. Диалектический вопрос о небытии был и остается проблемой позитивной теологии. Если Бог назван “живым Богом”, если он есть основа процесса творения жизни, если история значима для него, если не может быть отрицательного принципа дополнительно к нему, как можно было бы избежать понятия диалектической отрицательности в самом Боге? Такие вопросы заставляли теологов диалектически соотнести небытие с Самим-Бытием и, следовательно, с Богом. “Бездна” (Ungrund) Беме, “первая потенция” Шеллинга, “антитезис” Гегеля, “возможное” и “данное” в Боге современного теизма, “ме-онтическая свобода” Бердяева, – все это примеры проблемы диалектического небытия, оказавшей очевидное влияние на христианскую доктрину Бога.
Современный экзистенциализм “встретился с ничто” (Кун) наиболее глубоко и полно. Так или иначе, экзистенциализм заменил Само-Бытие небытием, придавая небытию позитивность и мощь, что противоречит непосредственному значению слова. “Уничтожающее ничто” Хайдеггера описывает человеческую ситуацию бытия под угрозой небытия как изначально неизбежную, то есть как ситуацию под угрозой смерти. Ожидание небытия перед лицом смерти придает человеческому существованию экзистенциальный характер. Сартр включает в небытие не только “ничто”, но и бессмысленность (т.е. разрушение структуры бытия). В экзистенциализме не существует пути преодоления этой угрозы. Единственно возможное отношение к угрозе – мужество принять ее на себя: мужество! Как показывает этот обзор, постановка диалектической проблемы небытия неизбежна. Ведь это проблема конечности. Конечность соединяет бытие с диалектическим небытием. Конечность человеческого бытия, или тварность, невозможно постичь, не использовав понятия диалектического небытия.
7. Конечное и бесконечное
Бытие, ограниченное небытием, есть конечность. Небытие появляется как “еще не” и “больше не” бытия. Оно противостоит бытию, которое имеет определенный предел, конец (finis). Это верно в отношении всего, кроме Самого-Бытия, которое не является вещью. Как мощь бытия, Само-Бытие не может иметь начала и конца. Иначе оно должно было бы возникнуть из небытия. Но небытие буквально не представляет собой ничего, кроме как в отношению к бытию. Бытие предшествует небытию в онтологической значимости, как показывает само слово “небытие”. Бытие есть начало без начала, конец без конца. Оно свое собственное начало и конец, изначальная мощь всего, что есть. Тем не менее, все, что сопричастно мощи бытия, “перемешано” с небытием. Это бытие в процессе выхода из небытия и ухода в небытие. Это конечность.
Как онтологическая структура, так и онтологические элементы подразумевают конечность. Самость, индивидуальность, динамика и свобода предполагают множественность, определенность, разделенность и ограничение. “Быть чем-то” означает не быть чем-то другим. Быть здесь и сейчас в процессе становления значит не быть там и тогда. Все категории мышления и реальности отражают эту ситуацию. “Быть чем-то” означает быть конечным.
Конечность ощущается на человеческом уровне, небытие воспринимается как угроза бытию, конец предчувствуется. Процесс самотрансцендирования имеет двойное значение в каждом из своих моментов. В одно и то же время он есть подъем и упадок мощи бытия. Чтобы воспринять конечность своего бытия, человек должен взглянуть на себя с точки зрения потенциальной бесконечности. Чтобы осознать движение к смерти, человек должен взглянуть на свое конечное бытие в целом; он должен каким-то образом оказаться вне своего конечного бытия. Он также должен суметь вообразить бесконечность, и он сможет ее вообразить, если не в строгих понятиях, то хотя бы как абстрактную возможность. Конечная самость обращена лицом к миру, конечный индивид обладает мощью всеобщего соучастия, человеческая жизненность объединена с сущностно неограниченным целеполаганием, как конечная свобода человек включен во всеобщую судьбу. Все структуры конечности заставляют конечное бытие переступать собственные пределы и именно вследствие этого осознать себя как конечное бытие.
Результаты этого анализа позволяют заключить, что бесконечность соотносится с конечностью не так, как относятся друг к другу прочие полярные элементы. Как показывает отрицательный характер этого термина, бесконечность определяется динамикой и самотрансцендированием конечного бытия. Бесконечность – понятие направляющее, но не конституирующее. Оно направляет сознание к переживанию своих собственных неограниченных возможностей, но не полагает существования бесконечного бытия. На этом основании возможно понять классические антиномии, рассматривающие конечность и бесконечность мира. Даже физическая концепция конечности мироздания не может удержать сознание от вопроса, что же лежит за пределами конечного космоса. Этот вопрос самопротиворечив, но его не избежать. С другой стороны, нельзя сказать, что мир бесконечен, потому что бесконечность никогда не дана как объект. Бесконечность – это призыв, а не предмет. Потому и убедительно кантовское решение антиномии конечного и бесконечного характера времени и пространства. Поскольку ни пространство, ни время не суть предметы, но формы предметов, то возможно трансцендировать каждое конечное время и каждое конечное пространство без исключения. Но все это не полагает бесконечный предмет в бесконечном пространстве и времени. Человеческое сознание может бесконечно двигаться, трансцендируя конечные реальности в направлении макрокосма и микрокосма. Но само сознание остается привязанным к конечности своего индивидуального носителя. Бесконечность – это конечность, превосходящая самое себя в отсутствие какого бы то ни было априорного предела.
Мощь бесконечного самотрансцендирования есть выражение того, что человек принадлежит лежащему за пределами небытия, а именно Самому-Бытию. Потенциальное присутствие бесконечного (как неограниченного самотрансцендирования) есть отрицание негативного элемента конечности. Это отрицание небытия. Тот факт, что человек никогда не удовлетворяется любой ступенью развития своего конечного бытия, факт, что ничто конечное не способно удержать его, хотя конечность – его судьба, указывает на неразрушимую связь всего конечного с Самим-Бытием. Само-Бытие не конечность: оно есть то, что находится вне полярности конечности и бесконечного самотрансцендирования. Само-Бытие обнаруживает себя конечному бытию в бесконечном движении конечного от самого себя. Но Само-Бытие не может быть отождествлено с бесконечностью как с отрицанием конечности. Оно превосходит конечное и превосходит бесконечное отрицание конечного.
Осознанная конечность есть страх. Как и конечность, страх – онтологическое качество. Нельзя установить его причину, его можно только увидеть и описать. Обстоятельства, в которых страх проявляется, необходимо отделить от самого страха. Как онтологическое качество страх также вездесущ, как и конечность. Страх независим от любого отдельного объекта, который мог бы вызвать его; он зависит только от угрозы небытия, которая идентична конечности. В этом смысле хорошо сказано, что предмет страха – “ничто”, а ничто не может быть предметом. Предметов боятся. Можно бояться опасности, боли, врага, но боязнь можно преодолеть действием. Страх нельзя преодолеть, поскольку ни одно конечное существо не может преодолеть конечность собственного бытия. Страх присутствует постоянно, хотя иногда он бывает скрытым. Соответственно, он может обнаружиться в любой и каждый момент, даже в тех ситуациях, когда бояться нечего5 .
Повторное открытие значения понятия страха совместными усилиями философии экзистенциализма, глубинной психологии, неврологии и искусства – одно из достижений XX века. Стало ясно, что боязнь, относящаяся к конкретным предметам, и страх как осознание конечности есть два совершенно различных понятия. Страх онтологичен, боязнь психологична6 . Страх есть онтологическое понятие, потому что он выражает конечность “изнутри”. Здесь следует сказать, что нет причины предпочитать понятия, взятые “извне”, понятиям, взятым “изнутри”. В соответствии со структурой “личность-мир” оба типа понятий равноценны.
Личность, осознающая себя, и личность, рассматривающая собственные мир (включая саму себя), равно значимы для описания онтологической структуры. Страх – это осознание конечной самостью себя как конечности. То, что страх по своему характеру – сильная эмоция, не уменьшает присущей ему мощи откровения. Эмоциональный элемент просто показывает целостность конечного бытия, которое сопричастно конечности и сталкивается с угрозой “ничто”. Поэтому кажется вполне уместным дать описание конечности как извне, так и изнутри, указывая на особую форму осознания через страх, соответствующую каждой из рассматриваемых форм конечности.
8. Конечность и категории
Категории являются формами, в которых сознание постигает и создает реальность. Говорить о чем-то разумно означает говорить средствами категориальных форм, используя “виды высказываний”, являющиеся также формами бытия. Категории следует отличать от логических форм, которые определяют высказывания, но имеют лишь косвенное отношение к самой реальности. Логические формы формальны в том смысле, что они отвлечены от содержания высказывания. Категории, с другой стороны, есть формы, определяющие содержание. Они онтологичны, и, соответственно, присутствуют в каждой вещи. Сознание не в состоянии воспринять реальность иначе как через категориальные формы. Эти формы употребляются как в религиозном, так и в светском языке. Они возникают скрыто пли явно в каждой мысли, относящейся к Богу и к миру, к человеку и к природе. Они вездесущи, присутствуют даже в той сфере, откуда они исключены по определению – в сфере “безусловного”. Соответственно, систематическая теология должна иметь с ними дело, разумеется, не в контексте развитой системы категорий, но так, чтобы показать их значение для вопроса о Боге, – вопроса, к которому ведет весь онтологический анализ.
Категории открывают свой онтологический характер через двойственное отношение к бытию и к небытию. Они отражают бытие, но в то же время отражают и небытие, от которого зависит все существующее. Категории – это формы конечного бытия, как таковые они объединяют в себе негативный и позитивный элементы. Онтологическая проблема, которая подготавливает путь к теологическому вопросу, вопросу о Боге, есть анализ этой двойственности, пространства, причинности, субстанции – мы должны в каждом случае рассматривать позитивный и негативный элементы не только “извне” – а именно в отношении к миру, но также должны рассматривать их “изнутри”, а именно в отношении к самости. Каждая категория выражает не только единство бытия и небытия, но также и единство страха и мужества.
Время – центральная категория конечности. Его мистика заворожила и пленяла каждого философа. Одни философы подчеркивают негативный элемент времени, другие – позитивный. Первые указывают на мимолетность всего временного и невозможность зафиксировать момент настоящего в потоке времени, который никогда не останавливается. Они указывают на движение времени от прошлого, которого уже не существует, к будущему, которого еще не существует, через настоящее, являющееся не более чем движущей границей между прошлым и будущим. “Быть” означает быть в настоящем. Но, если настоящее иллюзорно, небытие главенствует над бытием.
Те, кто подчеркивает позитивный элемент во времени, указывают на творческий характер временных процессов, на направленность и необратимость времени, на новое, возникающее в нем. Но ни одна из этих групп мыслителей не смогла отстоять исключительность своей точки зрения. Невозможно назвать настоящее иллюзией, поскольку только мощь переживаемого настоящего дает возможность оценить прошлое и будущее и движение от первого ко второму. С другой стороны, не следует недооценивать того, что время “проглатывает” все, что творит, что новое становится старым и исчезает и творческая эволюция сопровождается в каждый момент разрушением и разложением. Онтология может только утверждать равновесие между позитивным и негативным характером времени. Решение проблемы времени не может быть выведено из анализа самого времени.
Воспринимаемое в непосредственной данности сознанию, время соединяет страх и мимолетность с мужеством самоутверждения настоящего. Меланхолическое осознание направленности движения бытия к небытию, тема, которой пронизана литература всех народов, наиболее насущна в переживании человеком близости собственной смерти. То, что важно здесь – не страх смерти, т.е. страх перед мигом умирания. Именно страх неизбежности смерти открывает онтологический характер времени. В страхе неизбежности смерти небытие воспринимается “изнутри”. Страх потенциально присутствует в каждом мгновении. Он пронизывает бытие человека, охватывает душу и тело и определяет духовную жизнь; он принадлежит к тварному характеру бытия наряду с отчуждением и грехом. Страх присутствует как в “Адаме” (т.е. в сущностной природе человека), так и во “Христе” (новой человеческой реальности). Свидетельство Библии подчеркивает: глубокий страх перед неизбежностью смерти был присущ и тому, кого звали Христос. И опять-таки, страх мимолетности, страх перед переходом на отрицательную сторону времени, коренится в самой структуре бытия, а не в искажениях этой структуры.
Сам страх временности существования возможен благодаря тому, что он уравновешен мужеством, утверждающим временность. Без этого мужества человек поддался бы уничтожающему характеру времени, он отказался бы от настоящего. Но человек утверждает момент настоящего, хотя аналитически он кажется нереальным, и защищает его от страха, который вызывает в нем мимолетность этого момента. Он утверждает настоящее через онтологическое мужество, столь же изначальное, как и его страх временности. Это мужество присуще всем существа, но изначально и осознанно оно присутствует только в человеке, который способен предвидеть собственный конец. Следовательно, человеку нужно величайшее мужество, чтобы взять на себя свой страх. Человек самое мужественное из живых существ, потому что он должен одолеть глубочайший страх. Самое трудное для него – утверждать настоящее, потому что он способен представить себе будущее, которое ему еще не принадлежит, и прошлое, которое ему уже не принадлежит. Он должен защищать свое настоящее от видения бесконечного прошлого и бесконечного будущего, ни одному из которых он не причастен. Человек не может избежать вопроса о предельном основании своего онтологического мужества.
Настоящее всегда включает в себя присутствие человека в нем, а присутствие означает “быть присутствующим для субъекта перед субъектом” (по-немецки Gegenwartig). Присутствие предполагает пространство. Время творит присутствующее, объединяясь с пространством. В этом единстве время останавливается, потому что “есть на чем стоять”. Как и время, пространство объединяет бытие и небытие, страх и мужество. Как и время, пространство оценивается по-разному, поскольку это категория конечности. “Быть” означает быть в пространстве. Каждое сущее старается сохранить для себя пространство. Прежде всего это означает физическое местоположение – тело, участок земли, дом, город, страну, мир. Здесь также имеется в виду социальное “пространство” – призвание, сфера влияния, группа, исторический период, место в воспоминании или ожидании, место в структуре ценностей и значений. Не быть в пространстве означает не быть. Таким образом, в любой области жизни стремление к пространству есть онтологическая необходимость. Это следствие пространственного характера конечного бытия и качество всего тварного. Это конечность, но не греховность.
Быть в пространстве означает быть подчиненным небытию. Ничто конечное не обладает пространством, которое стало бы его собственным. Ничто конечное не может довериться пространству, потому что оно столкнется не только с потерей того или иного места в силу того, что человек – “странник на земле”, но, в конечном счете, также и с потерей всякого места, в котором оно было или могло бы быть. Как выражает эту мысль мощный символ, использованный Иовом и псалмопевцем: “Место его не будет уже знать его”7 . Не существует устойчивого отношения между местом и тем конечным бытием, которое выбрало его для себя. Быть конечным означает не иметь определенного места, означает неизбежность терять каждое место и вместе с ним себя. От этой угрозы небытия нельзя избавиться, ускользнув во время вне пространства. И наоборот, потеря пространства подразумевает потерю присутствия во времени, потерю настоящего, потерю бытия.
Отсутствие определенного и конечного пространства – это предельная незащищенность. Быть конечным означает быть незащищенным. Такое переживается в человеческом страхе перед завтрашним днем, именно оно выражается в беспокойных усилиях человека обеспечить себе безопасное пространство – физическое и социальное. Каждому жизненному процессу присущ этот характер. Стремление к безопасности становится доминирующим в особые периоды и в особых социальных и психологических ситуациях. Люди создают системы безопасности, чтобы защитить свой космос. Но они могут только подавить страх; они не могут избавиться от него, поскольку страх предвосхищает окончательное “отсутствие пространства”, которое подразумевается в конечности.
С другой стороны, страх потерять свое пространство уравновешивается мужеством, с которым человек утверждает настоящее, а вместе с ним и пространство. Все в мире утверждает свой собственный космос внутри Вселенной. Чем больше человек живет, тем успешнее он сопротивляется угрозе лишиться собственного пространства. Он мужественно встречает ситуации, в которых реализуется угроза лишиться места. Человек принимает свою онтологическую незащищенность и, принимая ее, достигает безопасности. Но нам не избежать вопроса, как возможно такое мужество. Как способно существо, не существующее вне пространства, принимать и изначальное и конечное отсутствие пространства?
Причинность также прямо подразумевает религиозную символику и теологическую интерпретацию. Подобно времени и пространству, причинность двусмысленна. Она выражает вместе бытие и небытие. Утверждает мощь бытия указанием на то, что предшествовало той или иной вещи или событию в качестве источника. Если что-либо причинно объяснено, оно реально утверждается, становится понятной его сила сопротивления небытию. Причина делает свое следствие реальным в мышлении так же, как и в действительности. Искать причины означает искать в вещи мощь бытия.
Положительное значение причинности, однако, есть обратная сторона ее отрицательного значения. Вопрос о причине вещи или события предполагает, что они сами по себе не могут стать сущими. Вещи и события не обладают “от-себя-бытием” (aseity). Это характеристика только Бога. Конечные вещи не являются причиной самих себя, они были “заброшены” в бытие (Хайдеггер). Вопрос “Откуда?” универсален. Дети задают его так же, как и философы. Но на него невозможно ответить, поскольку каждый ответ, каждое утверждение по поводу причины открыты для такого же вопроса о причине – и так до бесконечности. И эта регрессия в бесконечность не может быть остановлена даже Богом, который считается ответом на весь ряд вопросов. Ведь сам этот Бог должен спросить себя: “Откуда я взялся?” (Кант). Даже высшее сущее должно задаваться вопросом о собственной причине, обнаруживая таким образом свое частичное небытие. Через отношение следования причинность выражает невозможность существования чего бы то ни было постоянного. Всякая вещь восходит к собственной причине, а эта причина, в свою очередь, – к своей причине, и так до бесконечности. Причинность с большой силой выражает бездну небытия во всем.
Причинную схему нельзя отождествлять со схемой детерминизма. Причинность не снимается ни индетерминизмом субатомных процессов, ни творческим характером биологических и психологических процессов. Ничего в этих сферах не происходит без предшествующей ситуации, которая является причиной. Ничто не может быть обусловлено собой без причинной цепи; ничто не “абсолютно”. Даже высшее творение не может избежать того небытия, что возникает в причинной зависимости. Если мы посмотрим на вещь и спросим, что это такое, мы должны будем заглянуть за ее пределы и спросить, каковы были ее причины.
Страх, вызываемый переживанием причинности, – это не страх отсутствия “от-себя-бытия”, которое теология традиционно приписывает Богу. Человек есть творение. Его бытие случайно, само по себе оно не имеет необходимости, и поэтому человек осознает себя жертвой небытия. Та же самая случайность, что забрасывает человека в бытие, может его оттуда вырвать. В этом отношении причинность и случайное бытие есть одно и тоже. То, что человек причинно обусловлен, делает его бытие случайным по отношению к самому себе. Страх, в котором человек осознает ситуацию, это страх утраты необходимости собственного бытия. Его могло бы и не быть! Тогда почему он есть? И почему он продолжает существовать? Разумного ответа нет. Именно таков страх, заключенный в осознании причинности как категории, выражающей конечность.
Мужество приемлет произвольность, случайность. Человек, обладающий этим мужеством, не смотрит вне себя, туда, откуда он произошел, но остается в себе. Мужество игнорирует причинную зависимость всего конечного. Без этого мужества была бы невозможна жизнь, но остается вопрос, как возможно само мужество. Как может существо, зависящее от причинных уз и случайности, принять эту зависимость и в то же время приписать себе необходимость и уверенность в себе, которые противоречат этой зависимости?
Четвертая категория, описывающая единство бытия и небытия, – это субстанция. В противоположность причинности, категория субстанции описывает нечто, предлежащее потоку явлений, нечто относительно неподвижное и самодовлеющее. Не существует субстанции без акциденций. Акциденции получают свою онтологическую мощь от субстанции, которой принадлежат. Но без акциденций, в которых она выражается, субстанция – ничто. Итак, и в субстанции, и в акциденциях положительный элемент уравновешивается отрицательным.
Проблемы субстанции не избежали и философы “функции” или “процесса”, потому что вопрос о том, что обладает функцией или что находится в процессе, не может замалчиваться. Замена статических представлений динамическими не снимает вопроса о том, что делает возможными изменения, само относительно не изменяясь. Субстанция как категория действенна в любом соприкосновении мысли и реальности; она присутствует в каждом случае, когда мы говорим о чем-либо.
Следовательно, каждое конечное бытие по своей природе страшится потери своей субстанции. Этот страх относится как к продолжающимся изменениям, так и к окончательной потере субстанции. Каждое изменение открывает относительное небытие того, что изменяется. Изменяющаяся реальность теряет субстанциальность, мощь бытия, сопротивляемость небытию. Именно этот страх заставлял греков вопрошать настойчиво и нескончаемо о неизменном. Мы не вправе отбрасывать этот вопрос, утверждая, что статическое не имеет ни логического, ни онтологического приоритета над динамическим, ведь страх перед изменениями есть страх перед угрозой небытия, скрытой в изменениях. Это видно во всех основных изменениях индивидуальной и социальной жизни, вызывающих нечто вроде индивидуальной или групповой дурноты, ощущение того, что основание, на котором стоит личность или группа людей, исчезает; разрушается аутентичность личности и групповая идентичность. Этот страх достигает своей наивысшей формы в предчувствии окончательной потери субстанции и акциденций. В человеческом переживании неизбежности смерти предчувствуется полная потеря самотождественности. Вопрос о субстанции бессмертной души выражает глубинный страх, связанный с этим предчувствием.
Вопрос о неизменном в нашем бытии, так же, как и вопрос о неизменном в Самом-Бытии, есть выражение страха утратить субстанцию и идентичность. Не стоит отвергать этот вопрос, утверждая, что аргументы по поводу так называемого бессмертия души неверны, что они представляют собой попытку избавиться от серьезности вопроса о субстанциальности, что они приписывают бесконечное продолжение тому, что по сути своей конечно. Вопрос о неизменной субстанции невозможно замалчивать. Он отражает страх, исходящий от постоянной угрозы потерять субстанцию или самотождественность и силы самосохранения.
Мужество приемлет угрозу потери индивидуальной субстанции и субстанции бытия в целом. Человек приписывает субстанциальность чему-либо, что оказывается в конечном счете акцидентальным – творческой деятельности, любовным отношениям, конкретной ситуации, себе самому. Это не самовозвышение конечного существа, но, скорее, мужество утверждения конечности, принятия на себя страха. Вопрос в том, как возможно это мужество. Как может конечное бытие, осознающее неизбежность потери своей субстанции, принять эту потерю?
Четыре категории являют собой четыре аспекта конечности в ее позитивных и негативных элементах. Они отражают единство бытия и небытия во всем конечном. Они ясно выражают мужество, приемлющее страх небытия. Вопрос о Боге – вопрос о возможности такого мужества.
10. Сущностное и экзистенциальное бытие
Конечность во взаимосвязи с бесконечностью является качеством бытия в том же смысле, как и его основная структура и полярные элементы. Это качество характеризует бытие в его сущностной природе. Бытие сущностно соотносится с небытием; категории конечности обнаруживают это. Кроме того, бытию сущностно угрожает раскол и саморазрушение; напряженность между онтологическими элементами не ведет с необходимостью к угрожающему расколу. Поскольку онтологическая структура бытия заключает в себе полярность свободы и судьбы, то ничто онтологически значимое не может произойти с бытием, не будучи опосредовано единством свободы и судьбы. Разумеется, разрыв онтологической напряженности не является случайностью; он универсален и зависит от судьбы. Но, с другой стороны, он также не является и структурной необходимостью, будучи опосредован свободой.
Философская и теологическая мысль, следовательно, не могут избежать разделения между сущностным и экзистенциальным бытием. В любой философии можно обнаружить скрытое или явное осознание этого разделения. Когда идеальное противопоставляется реальному, истина – заблуждению, добро – злу, то здесь искажение сущностного бытия предполагается и оценивается в терминах сущностного бытия. И не важно, как проявление этого искажения объясняется в терминах причинности. Если это проявление признается искажением – а даже самый радикальный детерминист обвиняет своего оппонента в искажении (бессознательном) истины, которую сам он отстаивает – то вопрос о возможности такого искажения формируется в онтологических терминах. Как может бытие, включая в себе целостность собственной актуальности, содержать в себе собственное искажение? Этот вопрос всегда присутствует, хотя и не всегда в явной форме. И, если он ставится, то всякий ответ явно или скрыто предполагает классическое разделение между сущностным и экзистенциальным.
Оба этих термина весьма неопределенны. Сущность может обозначать природу вещи без какой-либо оценки; может обозначать понятия (универсалии), характеризующие вещи; идеи, к которым причастны существующие вещи; изначальное благо всего тварного; и, наконец, образцы вещей в божественном уме. Основная неопределенность, однако, состоит в колебании понятия “сущность” между эмпирическим и оценочным смыслом. Сущность как природа вещи, или как качество, к которому причастна вещь, или как универсалия, – это один смысл. Сущность как то, от чего бытие “отпало”, как истинная и неискаженная природа вещей – это другой смысл. Во втором случае сущность является основой оценочных суждений, а в первом случае сущность являет собой логический идеал, который достигается через абстракцию или интуицию, без вмешательства ценностей. Как же может одно слово иметь оба этих значения? Почему эта двусмысленность существует в философии со времен Платона? Ответ на оба эти вопроса лежит в двойственном характере существования, которое выражает бытие и в то же время противоречит ему: сущность как делающая вещь тем, что она есть (ousia) имеет число логический характер; сущность как то, что является в несовершенном и искаженном виде в вещи, несет печать оценки. Ценность наполняет мощью и оценивает то, что существует. Она дает ему его мощь бытия и в то же время противостоит ему как императивный закон. Там, где сущность и существование едины, нет ни закона, ни оценки. Но существование не объединено с сущностью; следовательно, закон противостоит всем вещам, а оценочное суждение проявляется в саморазрушении.
Понятие существования также имеет различные значения. Оно может означать возможность обнаружения вещи в целостности бытия; может обозначать актуальность того, что потенциально в сфере сущностей; “павший мир”; а также может обозначать тип мышления, осознающий собственные экзистенциальные предпосылки или же полностью отвергающий сущность. И опять-таки, неизбежная неопределенность оправдывает употребление одного слова в различных смыслах. То, что существует, то есть “выступает” из чистой потенциальности, есть большее, нежели оно в состоянии чистой потенциальности и меньшее, нежели оно могло бы быть в мощи своей сущностной природы. У некоторых философов, в особенности у Платона, превалирует негативная оценка существования. Благо тождественно сущности, а существование ничего к нему не добавляет. У других философов, например, у Оккама, превалирует позитивная оценка существования. Все реальное существует, а сущностное – не более чем отражение существования в человеческом сознании. Благо есть самопроявление высшего существования – Бога – и оно привносится в другие сущие извне. Третья группа философов, по примеру Аристотеля, занимает промежуточную позицию. Реально то, что существует, а в высшей сущности (Боге) потенциальное и актуальное совпадают.
Христианская теология всегда использовала разделение между сущностным и экзистенциальным бытием, причем с позиции, более близкой к Аристотелю, нежели к Платону или Оккаму. И это не удивительно. В противоположность Платону, христианство описывает существование в терминах творения его Богом, а не демиургом. Существование есть воплощение творения; существование придает творению позитивность. В противоположность Оккаму, христианская теология, как правило, подчеркивала раскол между тварным благом вещей и их искаженным существованием. Но благо не считается деспотическим императивом, навязанным всемогущим существом другим существам. Благо – это сущностная структура реальности.
Христианству следует занять “серединную” позицию, когда оно имеет дело с проблемой бытия. А оно должно заниматься этой проблемой, поскольку, хотя сущность и существование – философские термины, опыт и видение помимо них предшествуют философии. Опыт и видение возникли в мифологии и поэзии задолго до того, как философия стала рассматривать их рационально. Следовательно, теология не жертвует своей независимостью, используя философские термины, аналогичные тем, что использовала веками религия в дорациональном, образном языке.
Предыдущие соображения являются предварительным определением понятий; только как следствие являют они собой нечто большее. Целостное обсуждение отношения сущности к существованию тождественно всеобъемлющей теологической системе. Разделение между сущностью и существованием, которое на языке религии является разделением между миром актуальности и тварным миром, является основой теологической мысли в целом. И эту проблему необходимо рассматривать в каждой из частей теологической системы.
D. Конечность бытия человека и вопрос о Боге
11. Возможность вопроса о Боге и так называемый
онтологический аргумент
Примечателен тот факт, что в течение многих столетий выдающиеся теологи делились на тех, кто отвергал, и тех, кто отстаивал доказательство существования Бога. Ни одна из групп в конечном счете не одержала победы. Эта ситуация предполагает лишь одно объяснение: каждая из групп отвергала совсем не то, что защищала другая. Их разделял не конфликт по поводу одной и той же проблемы; они говорили о разных вещах, но выражали это в одних и тех же терминах. Те, кто отвергал доводы в пользу существования Бога, критиковали форму доказательства; а те, кто защищал эти доводы, принимал их скрытое содержание.
Едва ли можно усомниться в том, что аргументы терпят крах именно из-за своей претензии на доказательность. И понятие существования, и метод доказательства в конечном счете неадекватны самой идее Бога. “Существование Бога”, как бы его ни определяли, противоречит идее творящей основы сущности и существования. Основание бытия невозможно обнаружить внутри общности сущих, как и не может основание сущности и существования соучаствовать в той напряженности и тех расколах, что сопровождают переход от сущности к существованию. Схоласты были правы, когда утверждали, что в Боге нет различия между сущностью и существованием. Но они искажали собственное “прозрение”, когда, вопреки этому утверждению, говорили о существования Бога и пытались его доказать. Они подразумевали реальность, ценность, истинность идеи Бога, – идеи, которая в своем значении не подразумевает кого-либо или что-либо, что может или не может существовать. Однако именно таким образом идея Бога понимается и сегодня как в богословских, так и в обычных спорах по поводу “существования Бога”. Если бы слова “Бог” и “существование” были четко отделены друг от друга, кроме одного случая – парадокса самопроявления Бога в условиях существования, то есть христологического парадокса, это стало бы величайшей победой христианской апологетики. Бог не существует. Он являет собой Само-Бытие вне сущности и существования. Следовательно, доказывать, что Бог существует, означает отрицать его.
Метод доказательства посредством умозаключений также противоречит идее Бога. Всякое доказательство строит умозаключение от чего-либо данного к искомому. В доказательстве существования Бога мир рассматривается как данное, а Бог – как искомое. Некоторые характеристики мира делают вывод “Бог” необходим. Бог выводится из мира. Это не означает, что Бог от мира зависит. Фома Аквинский прав, когда отвергает такое толкование и говорит о том, что первое само по себе может быть последним в нашем познании. Но, если мы выводим Бога из мира, он не может быть тем, что бесконечно превосходит мир. Он есть “пропущенное звено”, открытое с помощью правильных умозаключений. Бог является объединяющей силой между мыслящей субстанцией (res cogitans) и протяженной субстанцией (res extensa) (Декарт), или конечным пунктом каузальной регрессии в ответах на вопрос “Откуда?” (Фома Аквинский), или теологической интеллигенцией, направляющей осмысленные процессы реальности – едва ли не идентичной этим процессам (Уайтхед). В каждом из этих случаев Бог есть “мир”, “пропущенная” часть того, из чего он выводится в терминах умозаключений. Это столь же полно противоречит идее Бога, как и понятие существования. Аргументы в пользу существования Бога не являются аргументами и существования Бога не доказывают. Они являются выражением вопроса о Боге, заключенного в конечном бытии человека. Этот вопрос есть их истина, а любой данный ответ ложен. Именно в этом смысле теология должна воспринимать такие аргументы, являющие собой “нерастворимое” основание всякой естественной теологии. Следует лишить эти аргументы характера доказательности и отбросить сочетание слов “существование” и “Бог”. Если выполнено данное условие, естественная теология становится разработкой вопроса о Боге и перестает быть ответом на этот вопрос. Последующие рассуждения следует понимать именно в этом смысле. Доводы в защиту существования Бога анализируют человеческую ситуацию таким образом, что вопрос о Боге становится возможным и необходимым.
Вопрос о Боге возможен, поскольку осознание Бога присутствует в вопросе о Боге. Осознание предшествует вопросу. Это не следствие доказательства, а его предпосылка, что, конечно же, означает, что “доказательство” – вовсе и не доказательство. Так называемое онтологическое доказательство указывает на онтологическую структуру конечного бытия. Оно указывает на то, что осознание бесконечного заключено в осознании человеком конечного бытия. Человек знает, что он конечен, что он исключен из бесконечности, которая, тем не менее, принадлежит ему. Он осознает собственную потенциальную бесконечность, осознавая в то же время реальную конечность собственного бытия. Если бы он был тем, чем по сути своей является, если бы его потенциальность была тождественна его актуальному бытию, вопрос о бесконечном и не вставал бы. Выражаясь мифологически, Адам до грехопадения пребывал в сущностном, хотя и непроверенном и неопределенном, единстве с Богом. Но это не ситуация человека и не ситуация чего бы то ни было существующего. Человек должен вопрошать о бесконечном, от которого он отчужден, хотя оно и принадлежит ему; он должен вопрошать о том, что дает ему мужество принять на себя страх. И он может ставить этот двойной вопрос, потому что осознание собственной потенциальной бесконечности заключено в его осознании конечности собственного бытия.
Онтологическое доказательство во многих его формах дает описание того, каким образом потенциальная бесконечность присутствует в актуальной конечности. Это описание ценно до тех пор, пока оно является анализом, а не аргументом. Присутствие внутри конечного бытия элемента, превосходящего его, воспринимается и теоретически, и практически. Теоретическая сторона этого вопроса была разработана Августином, практическая – Кантом, а за обоими стоит Платон. Ни одна из сторон не создала доказательства реальности Бога, но все их исследования обнаруживают присутствие чего-то безусловного внутри самости и мира. Если бы не было присутствия этого элемента, невозможно было бы поставить вопрос о Боге и невозможно было бы воспринять ответ, даже если это ответ откровения.
Элемент безусловного возникает в теоретических (воспринимающих) функциях разума как verum ipsum, Сама-Истина в качестве нормы всякого приближения к истине. Элемент безусловного появляется в практических (формирующих) функциях разума как bonum ipsum, Само-Благо в качестве нормы всякого приближения к благу. И Сама-Истина, и Само-Благо обнаруживают себя в esse ipsum, Самом-Бытии как основании и бездне всего сущего.
Августин в своем опровержении скептицизма сказал, что скептик осознает и подчеркивает абсолютный элемент истины в своем отрицании возможности истинных суждений. Он становится скептиком лишь потому, что стремится к абсолютности, из которой исключен. Никто в большей степени не осознает и не ищет veritas ipsa8 , нежели скептик. Кант показал путем аналогии, что релятивизм в отношении этического содержания предполагает абсолютное отношение к этической форме, категорическому императиву, и осознание безусловной ценности морального требования Bonum ipsum независимо от любого суждения о bona9 . До этого пункта Августину и Канту не следует возражать, поскольку они не доказывают, а лишь указывают на элемент безусловного во всяком соприкосновении с реальностью. Но и Августин, и Кант идут дальше этого верного анализа. Они выводят из него понятие Бога, которое гораздо больше, нежели esse ipsum, verum ipsum и bonum ipsum, больше, нежели аналитическое измерение в структуре реальности. Августин просто идентифицирует verum ipsum с Богом и церковью, а Кант старается вывести законодательство и гарант согласованности между моральностью и счастьем из безусловного характера морального требования. В обоих случаях отправная точка истинна, но неверно умозаключение. Восприятие элемента безусловного в соприкосновении человека с реальностью используется для создания безусловного сущего (противоречие в терминах) в самой реальности.
Утверждение Ансельма Кентерберийского о том, что Бог есть необходимая мысль и что, следовательно, эта идея должна обладать как объективной, так и субъективной реальностью, ценно постольку, поскольку мышление по своей природе заключает в себе элемент безусловного, превосходящий как субъективность, так и объективность, – то есть пункт тождества, делающий возможной идею истины. Однако это утверждение неверно, если элемент безусловного понимается как высшее сущее, именуемое Богом. Существование такого высшего сущего не заключено в идее истины.
То же самое можно сказать и о многих формах морального аргумента. Они ценны постольку, поскольку являются онтологическим анализом (а не доказательствами) под маской моральности, то есть онтологическим анализом элемента безусловного в моральном императиве. Понятие морального мирового порядка, часто употребляемое в этой связи, стремится отразить безусловный характер морального требования в свете исторических и природных процессов, которые могут, как кажется, противоречить ему. Моральное требование указывает на то, что моральные принципы коренятся в основании бытия, то есть в Самом-Бытии. Но таким образом нельзя прийти к “божественному координатору”. Онтологическое основание моральных принципов и их безусловный характер не могут быть использованы для гипостазирования высшего сущего. Bonum ipsum не заключает в себе существований высшего сущего.
Границы онтологического аргумента очевидны. Но нет ничего более важного для философии и теологии, нежели та истина, которую он в себе заключает, – осознание элемента безусловного в структуре разума и реальности. Идея теономной культуры, а вместе с ней – возможность философии религии, зависит именно от понимания этой истины. Философия религии, которая не начинает с чего-либо безусловного, никогда не обретает Бога. Современный секуляризм большей частью коренится в том факте, что элемент безусловного в структуре сознания и реальности не осознавался и по этой причине идея Бога навязывалась сознанию как “чуждое тело”. Это вызывало вначале гетерономное подчинение, а затем автономное отторжение. Разрушение онтологического аргумента не опасно. Опасно разрушение подхода, дававшего возможность ставить вопрос о Боге. Именно этот подход является смыслом и истиной онтологического аргумента.
12. Необходимость вопроса о Боге и так называемые
космологические аргументы
Вопрос о Боге может быть поставлен, потому что присутствует элемент безусловного в самом акте постановки вопроса. Вопрос о Боге следует ставить, потому что угроза небытия, которую человек переживает как страх, ведет его к вопросу о бытии, побеждающем небытие, и о мужестве, побеждающем страх. Этот вопрос есть космологический вопрос о Боге.
Так называемые космологическое и телеологическое доказательства существования Бога являют собой традиционную и неадекватную форму этого вопроса. Во всех своих вариантах эти доказательства переходят от особых характеристик мира к существованию высшего сущего. Они ценны постольку, поскольку дают анализ той реальности, которая обнаруживает, что космологический вопрос неизбежен. Но доказательства не обладают ценностью, когда провозглашают, что существование высшего сущего есть логическое следствие их анализа. Невозможно логически, как невозможно и экзистенциально, вывести мужество из страха.
Космологический метод доказательства существования Бога обычно избирал два пути. Он переходил от конечности бытия к бесконечному сущему (космологический аргумент в узком смысле) или от конечности смысла к носителю бесконечного смысла (телеологический аргумент в традиционном смысле). В обоих случаях космологический вопрос исходит из элемента небытия в сущих и значениях. Никакой вопрос о Боге не возник бы, если бы не существовало логической и ноологической (относящей к значению) угрозы небытия, поскольку вне этой угрозы бытие было бы вполне надежным. Выражаясь религиозным языком, в нем присутствовал бы Бог.
Первая форма космологического аргумента определяется категориальной структурой конечного бытия. От бесконечной цепи причин и следствий он приходит к заключению, что существует “первопричина” и от случайности всех субстанций приходит к выводу о “необходимой субстанции”. Но причина и субстанция – это категории конечного бытия. “Первопричина” есть гипостазированный вопрос, а не утверждение о сущем, которое стоит в начале этой причинной цепи. Такое сущее само было бы частью причинной цепи и вновь вызывало бы вопрос о причине. Точно так же “необходимая субстанция” есть гипостазированный вопрос, а не утверждение о сущем, дающем субстанциальность всем субстанциям. Такое сущее само было бы субстанцией с акциденциями и вновь само бы открывало вопрос о субстанциальности. Используемые в качестве материала для “аргументов”, обе категории теряют свой категориальный характер. “Первопричина” и “необходимая субстанция” являются символами, выражающими вопрос, заключенный в конечном бытии, – вопрос о том, что выходит за пределы конечного бытия и его категорий, вопрос о Самом-Бытии, объемлющем и побеждающем небытие, вопрос о Боге.
Космологический вопрос о Боге есть вопрос о том, что предельно делает возможным мужество, – мужество, приемлющее и преодолевающее страх категориальной конечности. Мы проанализировали неустойчивое равновесие между страхом и мужеством в отношении ко времени, пространству, причинности и субстанции. В каждом случае мы в конце концов столкнулись лицом к лицу с вопросом, как возможно мужество, заключенное в этих категориях и сопротивляющееся небытию. Конечное сущее заключает в себе мужество, но оно не может сохранять это мужество перед лицом предельной угрозы небытия. Ему нужно основание для предельного мужества. Конечное сущее есть знак вопроса. Оно ставит вопрос о “вечном сейчас”, в котором время и пространство одновременно принимаются и преодолеваются. Конечное сущее ставит вопрос об “основании бытия”, в котором причинность и субстанциальность одновременно подтверждаются и отрицаются. Космологический подход не в состоянии ответить на эти вопросы, но может и должен анализировать их корни в структуре конечного бытия.
Основанием так называемого телеологического доказательства бытия Бога является угроза конечной структуре бытия, то есть единству полярных элементов. Понятие telos, “внутренняя цель”, от которого это доказательство получило свое имя, есть значимая и осмысленная структуры реальности. Эта структура используется как трамплин для вывода о том, что конечные цели (teloi) заключают в себе бесконечное основание теологии, что конечные и подверженные угрозе значения заключают в себе бесконечное и надежное основание значения. В терминах логического доказательства это умозаключение не имеет ценности, как и другие космологические “аргументы”. А как постановка вопроса оно не только ценно, но и неизбежно и, как показывает история, наиболее впечатляюще. Страх бессмысленности – это характерно человеческая форма онтологического страха. Это та форма страха, которой может обладать лишь сущее, в чьей природе объединены свобода и судьба. Угроза утраты этого единства ведет человека к вопросу о бесконечном, надежном основании значения; она ведет человека к вопросу о Боге. Телеологический аргумент ставит вопрос об основании значения так же, как космологический аргумент ставит вопрос об основании бытия. В противоположность онтологическому аргументу, однако, оба в значительной степени космологичны.
Проблема отношения теологии к традиционным доказательствам существования Бога двойственна: развить вопрос о Боге, который они заключают в себе, и показать бессилие “аргументов”, их неспособность ответить на вопрос о Боге. Эти аргументы приводят онтологический анализ к выводу о том, что вопрос о Боге заключен в конечной структуре бытия. Говоря об этом, аргументы частично принимают и частично отвергают традиционную естественную теологию и ведут разум к поиску откровения.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Имеется в виду II период творчества, “трансцендентальный идеализм” (Прим. пер.).
2 Если мы назовем пространство и время “категориями”, то это будет искажением кантианской терминологии, где время и пространство названы формами созерцания. Но везде, даже в неокантианских школах, принято называть пространство и время категориями в широком смысле.
3 Тиллих имеет в виду А.Уайтхеда и Б.Рассела (Прим. пер.).
4 См. отношение Хайдеггера к Пармениду и роль небытия в философии Хайдеггера и его последователей-экзистенциалистов.
5 Психотерапия не может снять онтологического страха, поскольку не может изменить структуру конечного бытия человека. Но она может снять навязчивые формы страха и уменьшить частоту и силу приступов боязни. Она может поставить страх “на место”.
6 Английское слово “anxiety” получило коннотативное значение со словом Angst только в последнее десятилетие (40-е годы XX века – прим. пер.). Оба понятия, Agnst и anxiety, происходят от латинского “angustiae”, означающее “узость”, “стесненность”, “зажатость”. Страх переживается как стесненность угрозой ничто. Соответственно, слово “страх” нельзя заменить словом “ужас”, который указывает на внезапную реакцию, на опасность, но не на онтологическую ситуацию встречи с небытием.
7 См.: Книга Иова. Гл. 7. Ст. 10. (Прим. пер.).
8 Саму-Истину (veritas ipsa имеет гносеологический смысл, verum ipsum – скорее онтологический. – Прим. пер.).
9 Благах – Прим. пер.
перевод Т. П. Лифинцевой