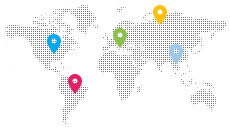ЭКУМЕНИЗМ УМЕР? ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭКУМЕНИЗМ!
ЭКУМЕНИЗМ УМЕР. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭКУМЕНИЗМ!
А.Десницкий
2014-й год как 1914-й
Весь двадцатый век любые социальные и экономические показатели о жизни России приводились «по сравнению с 1913 годом», последним мирным годом Империи, высшей точкой ее подъема, после которого началось ее падение. Похоже, что в нынешнем веке мы будем постоянно сравнивать свою жизнь с 2013 годом, и примерно по тем же причинам.
Пусть на вокзалах страны не гремят военные марши и мобилизованные запасные солдаты не садятся в эшелоны, но Россия вновь ввязалась в долгосрочный конфликт, масштаб которого явно превосходит ее ресурсы. И вновь, как в 1914 году, мы увидели подлинно всенародный взрыв патриотического ликования: вот еще чуть-чуть, коварный враг падет, к Рождеству всё устроится и жить мы будем еще лучше прежнего… ну, не к этому Рождеству… ну, рано или поздно!
А чем сменится патриотический подъем и готовность противостоять врагам, когда каждому жителю страны станет ясна личная цена, которую ему приходится за всё это платить, я не берусь предугадывать. Но страна уже не будет прежней, это точно.
Экуменический диалог – одна из тех областей, где это стало особенно очевидно. Вроде бы никто не прерывает межцерковных контактов, но… и смысла в них уже больше никто не видит. С официальной точки зрения, Россия – самодостаточная и совершенно особая православно-исламская цивилизация, которая наконец-то возвращается к собственным истокам, а католический и протестантский Запад ей то ли вековечный враг, то ли что-то просто глубоко чуждое и постороннее. Гиды, которые принимали русских паломников в Италии в этом году, свидетельствовали, что такие настроения характерны и для многих из них: приложиться к мощам святых, которые волей судеб оказались на Западе, совершить шоппинг и поскорее вернуться на Родину с этого чуждого Запада…
Какой разительный контраст с тем живым и неподдельным интересом к христианской жизни в европейских странах, который можно было увидеть пару десятилетий назад! Но кто сказал, что нынешний идеологический конструкт, нынешние народные настроения – на века? Сто лет назад всё в жизни страны изменилось очень быстро и очень сильно. Хотелось бы обойтись на сей раз без таких резких перемен, но история России последних ста лет славится своей полной непредсказуемостью.
Имеет смысл не столько рыдать об утратах и несбывшихся надеждах, сколько задумать о том, почему же долгожданная встреча России и Европы пока что не состоялась и какие глубинные идеи, какие подлинные интересы лежат за нынешними мимолетными событиями. И тогда, может быть, перед лицом перемен ни мы, ни наши настоящие друзья на Западе не окажемся такими же неготовыми и растерянными, как это было сто лет назад.
Тоска по Риму
Я бы назвал основной идеологический посыл последнего года «тоской по Риму». Звучит провокационно и даже абсурдно, знаю, но подождите судить. Лучше посмотрим на историю.
С самого своего возникновения Московское царство мыслилось как продолжение Римской государственности. «Два Рима пали, а третий стоит, и четвертому не бывать» – так писал в начале XVI века старец Филофей. Первый Рим, италийский, уклонился в злую латинскую ересь, второй, византийский, пал под ударами неверных. Выпавшее из их рук знамя подхватила Москва, столица единственного подлинно православного государства на всей земле – эта идеология с течением времени набирала силу и становилась все более популярной.
Иван Грозный вполне официально считал себя потомком первого римского императора Августа – разумеется, эта генеалогия была совершенно легендарной, но для него она была принципиально важна. В отличие от европейских монархов, он был потомком и наследником того самого Рима, и вся его неограниченная власть проистекала именно из такого наследства.
На самом деле, при Иване Московское царство стало собирать осколки империи Чингисхана: были завоеваны Казань и Астрахань на Волге, началось покорение Сибири, сделавшее из России действительно великую державу. Но Ивана мало заботило, что подвластные ему земли расширились, наверное, вдвое на восточных рубежах – он рвался на Запад. Им была начата Ливонская война, он стремился подчинить себе как «свою вотчину» кусочек настоящей Европы, земли нынешних Эстонии и Латвии. Война оказалась затяжной, кровопролитной и в конечном счете неудачной для Ивана, государство истощило в ней свои ресурсы, но царь не уступал до последнего. Он хотел войти в Европу, но на своих условиях, и ничего вернее войны на ее окраинах просто не смог придумать.
Ивану это не удалось, но удалось Петру Великому, который завоевал ту самую Ливонию, а себе присвоил римские титулы: imperator и pater patriae. С тех пор Россия – непременный участник европейских политических игр, включая военные, и византийско-римская мечта – один из главных мотивов такого участия. Это она заставляла Екатерину Великую отбирать у Османской империи Причерноморье и основывать там города с греческими названиями, и даже своего второго внука Екатерина назвала Константином – когда-нибудь он должен был сесть на престол в отвоеванном Константинополе.
Эта же римская мечта заставляла сына Екатерины Павла принять звание Великого магистра Мальтийского ордена и страстно мечтать о воссоединении церквей под его скипетром. Это она не в меньшей степени, чем языковое и культурное родство, заставляла Россию принять на себя ответственность за православные народы на Балканах, что, кстати, и превратило в 1914 году локальный конфликт в мировую войну. И та же самая мечта двигала советскими правителями, которые очень быстро отказались от идеи «мировой революции» и стали продолжателями русских императоров в европейских политических делах.
А что же теперь? Президент Путин назвал главную причину присоединения Крыма к России: возвращение сакрального Херсонеса, места, где принял крещение князь Владимир (знаковое совпадение имен!). То есть Россия вернула себе свою святыню, свою колыбель – ту часть, которая более тысячи лет была Римом и Византией, откуда родом и российская государственность, и русская культура. Именно так выглядит это объяснение. Россия снова хочет войти в Европу на своих условиях, и снова не умеет сделать это иначе, как демонстрацией силы.
В конце концов, что такое пресловутый «русский мир», о котором столько говорили и патриарх Кирилл, и президент Путин, как не калька с пресловутого Pax Romana? Для тех, кто говорит на иных языках, это совсем не очевидно, но в русском «мир» – это два омонима, соответствующие латинским mundus и pax. Одно из православных рождественских песнопений описывает этот самый Pax Romana так: «Когда Август стал единым правителем на земле, прекратилось многовластие людей. И когда Ты стал человеком, родившись от Чистой, упразднилось многобожие идолов. Единому мирскому царству подчинились города, и во единое владычество Божества уверовали народы».
Но горькая ирония состоит в том, что в «русском мире» версии последнего года заметен никак не pax, не благотворное для всех народов состояние прочного мира и благоденствия, а именно что mundus – территория, которую ее правитель стремится расширить за счет соседей.
Россия как «недо-Запад»?
Не случайно в официальной околокремлевской риторике постоянно звучит эта нота: Россия на самом деле и есть оплот традиционных ценностей, надежда консерваторов всего мира, последняя христианская страна… Словом, она осталась «Римом», когда сам Рим перестал им быть, она теперь и есть подлинный Запад, подлинная Европа. Как всегда, самовозвеличивание скрывает за собой неуверенность.
Есть в этом есть немалая доля обиды – если не справедливой, то, во всяком случае, вполне понятной. За девяностые и двухтысячные годы по целому ряду причин Россия так и не нашла себе места в Европе, и это касается далеко не только политики – о ней, пожалуй, хватит.
Расскажу лучше о своей основной специальности – библеистике. За эти годы мне довелось посетить немало международных конференций и семинаров. Разумеется, основным языком был английский, иногда вместе с немецким, а основной манерой подачи материала и ведения дискуссии – та, которая принята именно в англоязычной и германоязычной науке. Это не удивительно, именно на этих языках писались самые основные работы по библеистике в прошлом. Но в результате возникает странная ситуация: чтобы быть услышанным, надо не просто хорошо говорить по-английски, нужно еще перенять своеобразную англо-саксонскую манеру подачи материала, а это уже намного труднее сделать, даже если ты хорошо знаешь язык.
Вот один практический пример… Западные ученые привыкли говорить о Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, как еще об одном источнике, позволяющем с большей степенью вероятности определить, что именно было написано в не дошедшем оригинале. Но и только. Для восточных христиан именно Септуагинта была и во многом остается (при посредничестве национальных переводов) самым главным и, по сути, нормативным текстом Ветхого Завета, а ее язык – средством выражения для богословов и поэтов последующих верков.
Но когда человек из России (например, я), начинает говорить о значении Септуагинты в своей собственной традиции, о ее влиянии на становлении византийской гимнографии и всего, что за этим последовало, англосакс его просто не понимает. Для него Септуагинта – древний источник, но не более того. Не говоря уже о том, что византийская литература проходит по совсем другому научному ведомству, нежели библеистика. А у человека с Востока возникает ощущение, возможно, несправедливое, что его традиция просто неинтересна, что она для людей с Запада лишена собственной ценности.
Видимо, здесь играет роль большое сходство между христианским Западом и христианским Востоком. Когда мы глядим на черную Африку или на юго-восточную Азию, мы совершенно точно понимаем, что они – не Европа, никогда ей не были и не будут, там свои самостоятельные культуры и отрицать этот факт было бы просто невежеством и наглостью. И немногочисленные на данный момент ученые-библеисты из этих стран пользуются этим обстоятельством и отстаивают право на свое собственное оригинальное прочтение Писания, которое должно быть принято мировым научным сообществом как равноценное прочим.
А вот Восток Европы слишком похож на ее Запад, чтобы о нем можно было сказать нечто подобное. И в результате возникает искушение воспринимать его как «почти Запад» или «недо-Запад»: здесь всё то же самое, просто победнее, попримитивнее, с отставанием лет на пятьдесят или сто. И задача христианского Востока – как можно скорее преодолеть это отставание, перенять всё у Запада, а кто не понимает этого и сопротивляется, тот глубоко неправ.
Очень многие так думали в девяностые и даже в двухтысячные и в самой России. Но человек может терпеть экономические неурядицы и политические несвободы, а вот к чему он относится крайне болезненно – это к отрицанию, пусть даже кажущемуся, его идентичности. Именно на этом чувстве и строится сейчас официальная пропаганда в России.
Но ведь тот мир, который в античности назывался Римом, а теперь называется Европой, тоже подвижен. Когда-то его восточная и северная граница полегала по Рейну и Дунаю – за великими реками жили варвары, угроза Риму, с ними приходилось договариваться, торговать и воевать. Успех Рима определялся именно тем, что ему было, что варварам предложить. Так его граница постепенно сдвигалась на восток и на север, включая даже те территории, по которым никогда не ступали римские легионы, например, Скандинавию.
Но, пожалуй, еще пару столетий назад некоторые из нынешних членов Евросоюза не воспринимались никем как часть Европы – прежде всего балканские страны. И сегодня граница этого мира по-прежнему движется на север и восток, медленно, но упорно, и то, что происходит на Украине – часть этого процесса. Он, к сожалению, далеко не всегда бывает мирным и гладким.
Основная идея современной Европы, полагаю, укладывается в понятие «единство в многообразии». Там нет никаких «недо»: Ирландия – не недо-Англия, и Хорватия – не недо-Италия, при всей разнице в размерах и промышленных потенциалах. Трудно сказать сейчас, как будут складываться отношения ЕС с Украиной, Россией и Белоруссией, но мне вполне очевидно, что они принадлежат к этому европейскому миру. Их отличия от соседей, как то Польша или Финляндия – лишнее тому доказательство. В Европе принято быть разными.
Экуменизм институций – или личностей?
А что же нам это дает в плане экуменического диалога между русскими православными и западными христианами? Хорошо понимаю тех, кто считает, что он в настоящее время невозможен за пределами каких-то чисто протокольных встреч ради поддержания внешнего образа «хороших отношений». Говорить стало как будто некому и не о чем, а российским участникам диалога даже как будто и опасно: участие в нем точно не прибавляет шанса сделать хорошую церковную карьеру, и это еще мягко сказано.
Но раз я упомянул карьеру… А какой экуменизм мы видели в последние десятилетия? В основном, институциональный. Представители разных конфессий вели беседы на самые разные темы, выискивая точки соприкосновения. При этом каждый оставался в рамках своей конфессии с ее сложившейся догматикой и каноническим правом. В результате возникали крайне обтекаемые формулы, которые для одних были слишком слабыми, поскольку не предлагали никакого реального продвижения к единству, а для кого-то – слишком сильными, поскольку противоположная сторона признавалась за христиан, а не за злых еретиков. Самый яркий, пожалуй, пример – Баламандские соглашения 1993 года между православными и католиками. В России о них слышали единицы, и я знаю таких людей, для которых эти соглашения стали ясным признаком отпадения Московской патриархии от чистоты веры.
Этот институциональный экуменизм умер задолго до 2014 года. Он умер после того, как сыграл свою роль: христиане разных конфессий на протяжении XX века знакомились друг с другом, снимали мнимые разногласия и нелепые предубеждения. Но это совсем не значит, что между ними не было реальных разногласий или что их можно было легко преодолеть, оставаясь в рамках собственной конфессиональной догматики и каноники. Когда этот предел был найден, задача институционального экуменизма оказалась исчерпанной.
Но это совсем не значит, что невозможен никакой другой экуменизм. Мне кажется, именно к нему призывал папа Франциск, когда не стал на встрече с патриархом Варфоломеем в Константинополе обсуждать Filioque, или непорочное зачатие Девы Марии, или примат римского папы (самые болезненные точки православно-католического диалога), а встретился с ним как пастырь с пастырем, христианин с христианином, человек с человеком.
Такие встречи проходят и на самом базовом уровне в разных местах, например, в монастырских общинах в Тэзе во Франции, в Бозе в Италии или в культурном центре «Покровские ворота» в Москве. Их базовый принцип – «мы разные и мы равные, нам есть, чем делиться друг с другом». Мы не будем притворяться, что нет между нами никаких разногласий, что православие и католицизм – совершенно одно и то же, или что одни из нас должны «дорасти» до уровня других. Но мы стараемся разглядеть друг в друге лучшее.
Такой экуменизм пока что очень мало известен, но у него, я уверен, огромное будущее, особенно в России. Все больше людей начинают задумываться о том, что такое православие или, точнее, что называется теперь этим словом. В особенности это касается тех, кто, как я, пришел к вере еще в советские времена, когда в церкви невозможно было искать что-то, кроме самой церкви.
Сегодня это стало возможным, а порой даже модным или выгодным. И вот кто-то ищет в «православии» (без кавычек тут не обойтись) народные обряды и обычаи, кто-то – имперскую идеологию, причем то и другое прекрасно обходится без Христа. Оставаясь с этими людьми в одной юрисдикции, читая один и тот же символ веры, посещая один и те же богослужения, мы все чаще задаемся вопросом: а одна ли у нас на самом деле вера? Если подходить не формально, а по сути?
Кого-то такие мысли уводят из РПЦ в другие юрисдикции (в том числе и в новообразованные «истинно-православные» и «апостольские»), но для большинства, как и для меня самого, нет никаких причин считать, что русское православие принципиально ограничено кругом тех, кто так настойчиво выступает сегодня от его имени. Церковь преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского переживала разные времена, управлялась разными иерархами и институциями, и если сейчас она переживает очередной кризис – это не повод говорить ей «прощай». К тому же от себя никуда не убежишь, и человек, не нашедший покоя в одной юрисдикции, как правило, не обретает его и в других.
Но это, несомненно, повод задуматься о природе нынешнего кризиса смыслов и о возможных путях выхода из него.
Прожить свой двадцатый век
В последние годы многие из православных христиан в России попрощались с «проектом возвращения в XIX век». Сразу после крушения коммунизма была у многих эта иллюзия: почти весь двадцатый век оказался досадной ошибкой, его следует отменить, переиграть, вернуться в тот самый 1913 год. А если это не удается – по меньшей мере, сделать вид, сыграть в ролевую игру: кто играет в эльфов Толкина, а кто – в российскую церковь конца XIX – начала XX века.
Но ведь именно эта церковь оказалась совершенно беспомощной перед революционным валом: не смогла повести за собой народ, предложить ему какие-то иные, лучше смыслы и цели, нежели большевистская пропаганда. Она смогла родить множество мучеников и исповедников в годы гонений, но когда нас призывают ее восстановить в прежнем виде, совсем не такую перспективу имеют в виду.
Двадцатый век с его вызовами придется все-таки проживать: искать новые формы для вечного содержания, отвечать на возникшие вопросы, которые не стояли перед христианами первых веков, и конкурировать с идеями и интеллектуальными модами, которых сто лет назад никто не мог себе представить. Этот процесс был начат в России на Поместном соборе 1917-18 годов, во многих отношениях он мог бы значить для русского православия не меньше, чем Второй Ватикан для католицизма… если бы был хоть малейший шанс претворить его решения в жизнь. К сожалению, разразившаяся Гражданская война и жестокие атеистические гонения поставили перед церковью в России одну-единственную задачу: выживание.
А выживание – это значит, сохранение в неизменности всего, что только может быть сохранено, оно несовместимо с поиском новых форм, с экспериментаторством. И с тех пор для многих стал привычным именно этот образ церкви как крепости, осажденной врагами, в которой немыслимо ничего менять и трогать именно потому, что враги вот-вот ворвутся и все уничтожат. Более того, он стал как будто даже необходимым оправданием собственной «церковной недостаточности», которая всё чаще ощущается в России: церковь есть, она никуда не делась, но… она мало что говорит нашим современникам об их насущных проблемах, всё больше о собственном величии и о происках врагов.
Все больше людей, которым этого не хватает, которые ищут большего. А в эру интернета, когда факты и мнения распространяются по миру со скоростью света, когда с единомышленниками на других континентах общаются чаще и глубже, чем с соседями по подъезду, в поисках ответов на свои вопросы христиане России все чаще обращаются к опыту христиан других стран, прежде всего Европы, именно потому, что к европейскому миру Россия, как я глубоко убежден, всегда принадлежала и будет принадлежать.
Обращение к этому опыту совершенно не означает перехода через сложившиеся границы юрисдикций, но сами границы выглядят менее существенными, чем единство смыслов с людьми по другую их сторону. Да, мы принадлежим каждый своей стране, своей семье, своей церкви, но было бы просто нелепо утверждать, как на том самом вокзале 1914 года перед посадкой в эшелон, что только у нас всё самое правильное и лучшее.
России, видимо, предстоит прожить в ускоренном темпе «другой двадцатый век», хотя немалая часть ее жителей хотела бы вернуться в уютный девятнадцатый и остаться в нем навсегда – или, по меньшей мере, в его слабое подобие. Но это совершенно точно невозможно. И в этом отношении опыт Запада, где были свои трагедии, свои падения и взлеты, окажется просто неоценимым.
Готовность к заимствованию опыта и к диалогу через конфессиональные границы и составит, по моему убеждению, будущее экуменизма – экуменизма не институций, но личностей. В него сейчас вовлечена очень небольшая часть верующих с каждой стороны, как сказали бы политики, «пренебрежимо малая часть электората». Но именно малая закваска сквашивает всё тесто, в истории христианства именно так зарождались все новые идеи.
В таком экуменическом диалоге, как во флешмобе, будут участвовать только те, кто сам захочет, и заранее будет невозможно определить: кто именно и сколько, и не надоест ли кому-то очень скоро собственное участие. Это неудобно для начальства, но, кажется, только так сейчас это и будет работать.
Экуменический диалог христиан России и Запада, на самом деле, только начинается.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛА ВОЗМОЖНА ЛИШЬ С СОГЛАСИЯ АВТОРА