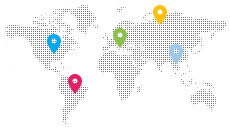ХРИСТИАНСТВО И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ А. Швейцер
И вы, и я проповедуем в этом мире Евангелие. Нам необходимо иметь ясное представление о причинах, заставляющих нас видеть в нем величайшую мудрость. Почему мы считаем его той закваской, на которой должны быть замешены мысли, чаяния и надежды всего человечества?
Четко разбираться в этом вопросе особенно необходимо в наше время, когда религиозное мышление, как таковое, стало предметом серьезных исследований, и нехристианские религии прошлого, а также современные мировые религии подвергаются объективному изучению. Раньше мы просто-напросто называли эти нехристианские религии язычеством и таким способом отделывались от них. Сегодня наше внимание обращают на то, какое серьезное стремление к Богу и как много возвышенных идей можно найти в этих религиях. Нередко приходится слышать, что мировоззрение некоторых из этих мировых религий намного более продумано, чем христианское, в котором всегда присутствует что-то наивное. Некоторые из мировых религий, например буддизм и индуизм, начинают претендовать на роль религии более высокой по сравнению с христианством. Их представители приходят в Европу и встречают восторженный прием — как глашатаи истин, до которых якобы не способно подняться христианство.
Давайте вместе с вами попытаемся понять, действительно ли христианство при всей своей простоте может претендовать на то, чтобы быть глубочайшим выражением религиозной мысли.
Не ждите от меня той апологетики, с которой, к сожалению, теперь часто приходится встречаться и которая заключается в утверждении, что христианство содержит истины, стоящие выше всяких рассуждений, и поэтому ему нет необходимости полемизировать с мышлением. Такая защита представляется мне чем-то вроде отступления в горную крепость — вещь отличная с точки зрения обороны, но бесполезная, если мы хотим осуществлять власть над всей территорией страны.
С молодых лет я был твердо убежден, что любая религиозная истина должна быть в конце концов постигнута как истина, с необходимостью вытекающая из размышления. И потому я считаю, что в полемике с мышлением и с другими религиями христианство не должно требовать для себя каких-то особых привилегий. Напротив, оно должно находиться в самой гуще борьбы идей, полагаясь исключительно на силу содержащейся в нем истины.
Прежде всего я должен коснуться результатов исследований по истории религий, имеющих отношение к происхождению христианства. Вы знаете, что некоторые из исследователей заходят так далеко, что ставят под сомнение его оригинальность. Первым из них был Бруно Бауэр (1809—1882)'. Он утверждал, что истоки христианских идей лежат в религиозности греко-римского мира начала нашей эры. Вначале образовалась религиозная община жаждущих "спасения"; позднее возникло предание, сделавшее иудейского раввина по имени Иисус провозвестником этой "религии спасения".
Артур Древе (в настоящее время — профессор философии Высшей технической школы в Карлсруэ), глубоко религиозный мыслитель, испытавший на себе влияние философии Эдуарда фон Гартмана, считает, что христианство возникло из мифа об умирающем и восстающем из мертвых боге-спасителе2. Из этого мифа якобы и выросла история Иисуса в том виде, в котором мы ее находим в евангелиях.
С другой стороны, есть исследователи, полагающие, что действительно существовал иудейский учитель по имени Иисус, который был распят на кресте за свое учение, однако действительным создателем христианства был апостол Павел. В мыслях Павла, по их утверждению, главное место занимали идеи эллинистических религий спасения; в Тарсе он познакомился с мистериальными культами, которые в то время получили распространение в Малой Азии, а также усвоил мистические идеи спасения, возникшие на почве религии Заратустры. Позднее он связал эти греко-восточные идеи спасения с размышлениями о личности и деятельности распятого Иисуса из Назарета, которого представил Спасителем, умирающим ради людей. Кроме того, именно Павел сделал таинства существенным элементом христианства. Главный представитель этой точки зрения — немецкий филолог Рихард Райценштайн'.
Каким образом серьезные люди могли прийти к заключению, что идеи христианства обязаны своим происхождением не Иисусу, а представляют собой всего лишь трансформацию идей, будораживших религиозные круги тогдашнего языческого мира?
Дело в том, что между христианством и эллинистической религиозностью действительно имеется определенная аналогия. И там, и там существенную роль играет уверенность в спасении; и там, и там достижение спасения связывается со священными обрядами.
---
' Итоговое изложение идей Бауэра можно найти в его книге "Christus und die Casaren. Der Ursprung des Christentums aus dem romischen Griechentum" (1877).
2 Arthur Drews. Die Christusmythe. 1909. Из многочисленных современных авторов, оспаривающих историчность Иисуса, упомяну следующих: John M.Robertson. Christianity and Mythology. 1900; William Benjamin Smith. Ecce Deus. 1912; Samuel Lublinski. Die Entstehung des Christentums aus der antiken Kultur. 1910.
3 Richard Reitzenstein. Die hellenistischen Mysterienreligionen. Ihre Grundgedanken und Wirkungen. 1910; Das Iranische Erlosungsmysterium. 1921. Относительно этой теории см.: Albert Schweitzer. Geschichte der Paulinischen Forschung. 1911.
---
В начале нашей эры страстное желание спасения искало удовлетворения в культах, зародившихся либо в Греции, либо на Востоке, либо в Египте и обещавших спасение людям, посвященным в тайну. Эти культы лишь недавно сделались объектом исторических исследований, в результате которых впервые стала понятной их важная роль в духовной жизни того времени, когда античный мир доживал свои последние дни. Пионерами в этой области были немецкие филологи Герман Узенер, Эрвин Роде, Альбрехт Дитерих и бельгийский ученый Франц Кюмон'. В Греции возникли элевсинские таинства, в Малой Азии — поклонение Аттису и Кибеле, в Египте — культ Исиды и Сераписа, в Персии — культ Митры.
Однако попытка доказать, что христианство произошло от этих мистериальных религий, не приводит к положительным результатам. Христианство намного богаче этих религий и, кроме того, содержит элементы, совершенно иные по своему характеру. Как бы мы ни идеализировали греко-восточные мистериальные религии — а некоторые исследователи идеализируют их сверх всякой меры, — они все-таки оказываются слишком бедными по сравнению с христианством. Если судить о них трезво, не выходя за рамки дошедших до нас текстов, то значительная часть окутывающего их очарования исчезает. Единственная интересующая их проблема — как получить бессмертие посредством магии. Этический элемент, играющий столь важную роль в христианстве, в этих культах либо совсем отсутствует, либо в лучшем случае присутствует лишь на словах. Один только культ Митры по-настоящему этичен. Свою этическую энергию он черпает из религии Заратустры, осколком которой является. Подобно яркой комете пронесся он по греко-восточному и греко-римскому миру. Но даже самые ярые фанатики, оспаривающие оригинальность христианства, не рискуют утверждать, что оно произошло от культа Митры, поскольку этот культ появился в греко-восточном мире лишь после того, как христианство достигло своего полного развития. Тем не менее именно исключительная жизненность этических идей сделала религию Митры, которую римские солдаты принесли в Германию, Галлию и Африку, самой сильной соперницей христианства.
Фундаментальное различие между идеей спасения эллинистических религий и идеей спасения христианства заключается в следующем: в первой отсутствуют какие бы то ни было представления о Царстве Божьем, тогда как для второй они являются определяющими.
Эллинистическая религия занята исключительно судьбой духа в материальном мире. Она стремится понять, каким образом жизнь из своего высшего состояния перешла в более низкое и как она может снова освободиться из этого плена. Ее интерес сосредоточен на восстановлении духовного элемента во всем его первоначальном объеме, а не на судьбе человечества или мира. Христианство, напротив, живет горячей надеждой на лучший мир. В соответствии с христианскими представлениями спасение — это деяние Бога, который учреждает этот лучший
--
' Hermann Usener. Religionsgeschichtliche Untersuchungen. 1889, 1899; Erwin Rohde. Psyche. 1894; Albrecht Dieterich. Eine Mithrasliturgie. 1903; Franz Cumont. Les Mysteres de Mithra. 1900; Les religions orientales dans le paganisme romain. 1906.
--
мир, Царство Божье, и принимает в него людей, доказавших свою набожность и нравственность.
Если говорить конкретнее, особенность учения Иисуса и Павла о Царстве Божьем заключается в том, что они ожидают конца этого мира и наступления мира сверхъестественного в самом ближайшем будущем. "Святые", которые не приняли законов жизни, господствующих в этом мире, и тем самым доказали, что являются избранниками Царства Божьего, будут жить в этом Царстве вместе с Мессией в преображенной телесной форме до тех пор, пока не наступит конец и все возвратится к Богу, так что Бог станет всем во всем, как было вначале (1 Кор. 15:28). Ничего похожего на подобную эсхатологическую надежду, т.е. на ожидание конца мира и его преображение, нет в греко-восточных мистериальных религиях. Встречаясь с такого рода ожиданиями, мы можем с уверенностью утверждать, что имеем дело с религиозным мышлением, истоки которого лежат не в мистериальных религиях, а в иудейских воззрениях, которые мы находим еще у пророков. Представление о Царстве Божьем было создано Амосом и Исаией. Поздний иудаизм — отчасти, вероятно, под влиянием религии Заратустры, с которой евреи познакомились в изгнании, — придает ему фантастическую форму. Иисус поднимает идею Царства на ее высшую этическую ступень, не отрицая ее позднеиудейской формы.
Таким образом, с любой точки зрения утверждение, что христианство может быть объяснено исходя из греко-восточных религиозных идей, следует расценивать как религиозно-историческую фантазию. Христианство является оригинальным творением Иисуса, духовной школой которого была позднеиудейская религия.
Позднее, когда христианству пришлось отказаться от надежды на быстрый приход конца света и немедленное осуществление Царства Божьего и когда через новообращенных греков греческая мысль начала оказывать на него свое влияние, христианство до известной степени сблизилось с миром греко-восточных мистериальных религий и в результате оказалось обедненным.
Процесс, в ходе которого христианство в своем неудержимом развитии отбросило иудейское мышление и "эллинизировалось", известен нам пока лишь в общих чертах. Несомненно одно: как только иудейские воззрения были оставлены, идеи, составляющие величие и уникальность провозвестия Иисуса, — идеи Царства Божьего и этики, ориентированной на это Царство, — потеряли свою живую силу в христианской религии. Первым представителем этого эллинизированного христианства был Игнатий, живший в конце I — начале II столетий. В его посланиях от полного жизни провозвестия Иисуса осталось немногое. Его интересуют в основном таинства и то, каким образом они оказывают свое действие. Евхаристию он рассматривает как "лекарство бессмертия".
Но не будем довольствоваться тем, что христианство, как мы установили, не может быть выведено из религиозного мышления грековосточного типа, а представляет собой нечто оригинальное и берет свое начало в личности Иисуса, действовавшего в Галилее и умершего в Иерусалиме. Для установления различия между христианством и грековосточной религиозностью попытаемся определить, в чем заключается своеобразие его природы.
Есть одно обстоятельство, которое вновь и вновь вводит в заблуждение людей, заставляя их считать, что религиозное мышление грековосточного типа и мышление христианства по сути тождественны. Я имею в виду тот факт, что оба они пессимистичны. Они отчаялись найти что-либо ценное в естественном мире и не возлагают на него никаких надежд. Однако именно здесь и обнаруживается роковое различие. Греко-восточная религиозность просто пессимистична. Единственный вопрос, который ее интересует, — это вопрос освобождения духовного начала от материального мира. Гностики II столетия — Василид, Валентин, Маркион и др. — истолковывали христианство в смысле этого пессимизма и пытались вместить его в рамки своих систем, описывающих процесс снижения духа вплоть до перехода в материю и его возвращение к первоначальному состоянию. Та же идея доминирует и в манихействе, возникшем в III столетии.
Христианство, однако, не столь однородно. В пласте его пессимизма есть оптимистические прожилки, поскольку оно является не только религией спасения, но и религией Царства Божьего. Следовательно, оно желает преобразования мира и надеется на него.
С этим связан тот факт, что этика христианства весьма отлична от этики греко-восточных религий. Последняя занята только освобождением от мира, это не активная этика. Напротив, Иисус, подобно пророкам и Заратустре (у которого много общего с пророками), требует, чтобы мы стали свободными от мира и в то же время были активны в этом мире. Единственное переживание, ценное с точки зрения религиозного мышления греко-восточного типа, — это страстное стремление к духовности; в соответствии же с учением Иисуса люди должны быть захвачены Божьей волей к любви и должны помогать осуществлять Его волю в этом мире — как в большом, так и в малом, спасая и прощая. Уже в этом несовершенном мире с радостью служить орудием Божьей любви — вот их призвание и первая ступень к блаженству, которое суждено им в совершенном мире — Царстве Божьем.
Исполняя Божью волю к любви, они чувствуют (хотя и не могут объяснить ее) свою общность с Мессией. На этом основании они ожидают, что в день Страшного суда они по велению Мессии войдут в Царство Божье. Именно в этом смысл веских слов Иисуса (Мф. 25:40): "Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".
Греко-восточная религиозность — уже у Платона, затем в мистериальных религиях и у гностиков — говорит человеку: "Стань свободным от мира!" Иисус же говорит: "Стань свободным от мира, чтобы действовать в нем в Духе Божьем и Божьей любви, пока Бог не переселит тебя в иной, более совершенный мир". На чем основано это различие? В греко-восточной религиозности господствует представление о Боге как о чем-то безжизненном. Для нее Бог не означает ничего, кроме чистой духовности. Бог Иисуса — это активный Бог, который действует в человеке.
Следовательно, религия Иисуса не является последовательным, продуманным до конца пессимизмом, а представляет собой сложное переплетение пессимизма и оптимизма.
Таким образом, религиозное мировоззрение Иисуса не сводит все к единой первооснове. Его суждение о естественном мире пессимистично, это так. Но Бог для Него — это нечто иное, чем совокупность действующих в мире сил или чистая духовность, часть которой была утрачена в мире и теперь должна быть восстановлена. Он есть движущая сила добра, таинственная воля, отличная от мира и стоящая выше мира. Ему мы подчиняем нашу волю; Ему предоставляем право определять будущее мира. Этот контраст между миром и Богом, который является этической Личностью, и своеобразное напряжение, создаваемое одновременным присутствием пессимизма и оптимизма, составляют уникальность религии Иисуса. Она не сводится к унифицированной системе, и в этом ее величие, ее истинность, ее глубина, ее сила.
В этом месте я должен остановиться и заметить, что мы, современные люди, склонны интерпретировать идеи Иисуса современным образом. Мы свыклись с мыслью о том, что при условии активного этичного поведения людей Царство Божье может быть осуществлено на земле. Видя, что Иисус говорит и об этической деятельности, и о Царстве Божьем, мы думаем, что он связывает эти два понятия так же, как это делаем мы, что кажется нам таким естественным. На самом же деле Царство Божье у Иисуса наступает не в этом мире и не в результате развития человеческого общества: оно учреждается Богом, когда Он преобразует этот несовершенный мир в совершенный. По мысли Иисуса, этическое поведение человека — это нечто вроде обращенной к Богу действенной молитвы, чтобы Он позволил Царству прийти без промедления. Именно так следует понимать слова Иисуса (Мф. 11:12) о том, что со дней Иоанна Крестителя Царство Небесное силою берется и им овладевают насильники*.
На протяжении полутора столетий модернизированная интерпретация идей Иисуса господствовала в протестантской теологии как нечто само собой разумеющееся. Лишь совсем недавно мы осмелились допустить возможность того, что Он, живя позднеиудейским ожиданием конца света, думал о Царстве Божьем иначе, чем мы.
Есть глубокий смысл в том, что органическая связь (которая нам представляется столь естественной) между этическими действиями человека и осуществлением Царства Божьего не реализуется. Это значит, что мы должны быть этичными не потому, что предполагаем таким путем достигнуть определенной цели, а из внутренней необходимости, чтобы стать детьми Духа Божьего и уже в этом мире быть исполнителями Его воли.
Устанавливая свою этику, Иисус не имел в виду решение проблем создания абсолютно этичного общества. Он проповедует этику людей, совместно стремящихся достигнуть полной самоотдачи по отношению к Божьей воле. И поскольку Он таким образом отворачивается от всего утилитарного, Он достигает абсолютной этики. Этика, которая базируется на принципе целесообразности, всегда относительна.
Иисус, к примеру, говорит нам, что мы должны всегда прощать, что мы не должны ни бороться за свои права, ни сопротивляться злу. Его не интересует, приведет ли Соблюдение этих заповедей к установлению соответствующего законного порядка и возможен ли такой закон в человеческом обществе; Он ведет нас выше всех соображений целесообразности — к внутренней необходимости исполнения воли Бога.
Будучи современными людьми, мы представляем себе совершенное человеческое общество как некую гармонию юридических установлений и практики любви. Иисус не пытается согласовать любовь с правосудием, Он говорит человеку: если ты хочешь быть в Духе Бога, ты можешь думать и действовать только по любви.
Именно потому, что Иисус мыслит не утилитарно, а в соответствии с абсолютной этикой, требующей не подчиняться законам жизни этого мира, — именно по этой причине Его идеи составляют столь заметный контраст с нашими современными взглядами. Лишь прочувствовав глубоко этот контраст, мы получаем возможность установить контакт с подлинным Иисусом. Поэтому мы не должны поддаваться искушению модернизировать Его взгляды и ненамеренно вкладывать наши мысли в Его слова. Значение Его для нас заключается в том, что Он борется против духа современного мира, заставляя его покинуть тот низкий уровень, на котором он находится и выше которого не поднимаются даже лучшие из его идей, и подняться на такую высоту, которая позволит нам судить о вещах в соответствии с высшей волей Бога, действующей в нас; которая позволит нам мыслить не в терминах человеческого утилитаризма, а единственно в терминах должного исполнения Божьей воли — чтобы стать той силой, посредством которой действует Его этическая Личность.
Итак, мы установили, что христианство возникло как новое, оригинальное учение, и рассмотрели некоторые его особенности в сравнении с греко-восточными религиями. Перейдем теперь к сопоставлению христианства с мировыми религиями, которые в наше время борются за господство в духовной жизни человечества.
Какие это религии? Я имею в виду брахманизм, буддизм, индуизм и тот тип религиозного мышления, который берет свое начало от китайских мыслителей Лао-цзы и Конфуция. Сопоставление христианства с религией Заратустры, которая во многих отношениях стоит ближе всего к иудейской религии и к самому христианству, представляется беспредметным, ибо зороастризм уже не играет в мире сколько-нибудь заметной роли и едва ли сможет снова вернуть себе прежнее значение. Основатель этой религии Заратустра (Зороастр) — великий пророк, живший, по-видимому, в VII столетии до н.э. в северной Персии. Мы не располагаем сколько-нибудь подробными сведениями о ее возникновении.
Основная идея этой религии заключается в том, что мир находится под властью Анхра-Майнью (Аримана) — властителя злых духов. Ему противостоит Ахурамазда (Ормузд) — высший из добрых духов, хранитель жизни, тот, кто требует чистоты. Придет день, когда мир окажется в его власти, и он преобразует его в мир более совершенный. Люди же должны решить, на чью сторону стать в этой разворачивающейся битве: на сторону Ахурамазды или Анхра-Майнью.
Расцвет религии Заратустры (в честь Ахурамазды ее называют также маздеизмом) приходится на времена империи Сасанидов (226—642 гг. н.э.). Когда эта империя, ослабленная войнами с Византией, была разрушена арабами-мусульманами, судьба зороастризма была решена. Его постепенно искореняли, и в конце концов его последователи были вынуждены принять ислам. В 1697 г. последние оставшиеся приверженцы зороастризма бежали в Индию и поселились к северу от Бомбея, где их потомки живут до сих пор. Благодаря им до нас дошла, хотя и не полностью, в переводе на новоперсидский Авеста — собрание священных книг зороастризма. В Европу Авеста была привезена из Индии в 1761 г. французским ученым АнкетильДюперроном.
Нет также никакой необходимости в сопоставлении духовных ценностей христианства и ислама. Последний возник в VII столетии н.э., отчасти под влиянием иудейских и христианских идей. Ему недостает духовной оригинальности, и его нельзя отнести к числу религий, содержащих глубокие мысли о Боге и о мире. Его влияние в мире основано на том, что, будучи монотеистической и в какой-то степени этической религией, он в то же время сохраняет все инстинкты примитивного религиозного мышления и поэтому может предложить себя нецивилизованным и полуцивилизованным народам Азии и Африки в качестве наиболее доступной для них формы монотеизма. Правда, и в исламе имеются и ведут борьбу за существование более глубокие, мистические элементы, особенно в так называемом суфизме — движении, находящемся под зороастрийским и индийским влиянием. Однако такого рода движения каждый раз подавляются.
Сравнивать христианство с религией Израиля более детально нет необходимости потому, что христианство переняло наиболее важные идеи этой религии и развило их дальше.
Итак, как же выглядит христианство в сопоставлении с брахманизмом, буддизмом, индуизмом и религией Китая — религиями, в каждой из которых мы находим глубокие и оригинальные мысли о Боге и о мире?
Сформулируем вначале основные принципы, которыми мы будем руководствоваться при сопоставлении религий. Самое большее, что можно тут сделать, — это дать сравнительную характеристику основополагающих идей. Мы будем оценивать мировые религии по тем идеалам, которые они выдвигают. Насколько каждой из них удалось продвинуться в осуществлении своего идеала — этого вопроса мы здесь касаться не будем. Христианство само, если рассматривать его в историческом аспекте, далеко отстает от своего идеала и вынуждено прилагать много сил к тому, чтобы сокращать этот разрыв.
Изучая основополагающие идеи высших религий, мы замечаем, что они различаются между собой по трем главным пунктам, которые и определяют характер каждой религии.
Во-первых, религия может быть оптимистической или пессимистической. Во-вторых, монистической или дуалистической. В-третьих, этические мотивы могут присутствовать в ней в большей или меньшей степени.
Религия оптимистична, если ей присуще убеждение, что силы, действующие в природном мире, происходят от совершенной, благой изначальной силы, которая ведет все сущее к совершенству путем естественного развития.
Религиозное мышление называют пессимистическим, если оно отказывается понять действующие в чувственном мире силы как выражение божественной доброты и совершенства. Поэтому оно не возлагает надежд на имеющиеся возможности развития в границах этого физического мира, а обращает свой взор выше, к миру чистого, духовного бытия.
Религия монистична, если она смотрит на Бога как на совокупность всех сил, действующих во вселенной, и поэтому верит, что путем познания вселенной мы можем прийти к истинному познанию Бога. Следовательно, монизм по самой своей природе пантеистичен.
Религия дуалистична, если она не пытается прийти к познанию сущности Бога путем исследования сил, действующих в природном мире, а стремится понять Его в соответствии с теми идеальными представлениями, которые находятся в нас самих. Это с необходимостью приводит к идее о том, что Бог в какой-то степени противостоит силам природы — как бы ни велики были трудности, создаваемые таким представлением для человеческого рассудка. Бог, которого мы несем в себе как идеал, — это этическая Личность; напротив, события, вызываемые действующими во вселенной силами, не носят этического характера. Следовательно, дуалистическая религия — это теизм.
Различия, о которых мы говорили до сих пор, касаются скорее формальной стороны тех представлений, которыми пользуется религиозная мысль. Внутренняя природа религии определяется ее этическим содержанием. Поэтому главный вопрос, на который необходимо ответить при характеристике всякой религии, заключается в следующем: создает ли она, и в какой степени, постоянные и глубокие побуждения к внутреннему совершенствованию личности и к этической деятельности?
В религии мы пытаемся найти ответ на элементарный вопрос, с которым каждый из нас заново сталкивается каждое утро, а именно: какой смысл и какую ценность следует приписывать нашей жизни? Что такое я в этом мире? Каково мое назначение в нем? На что я могу в нем надеяться? Я не хочу рассматривать свое существование просто как что-то рождающееся и умирающее среди бесчисленных миллионов подобных же существ, заполняющих вселенную. Я хочу видеть в нем жизнь, которая, если я правильно понимаю ее и живу в соответствии с истинным знанием, имеет смысл и ценность.
Все религиозные проблемы сходятся к одной, которая заключает в себе все остальные: каким образом могу я представить себя живущим в мире и одновременно с этим — в Боге? Все проблемы христианского богословия во все времена тоже концентрировались вокруг этого вопроса. Как же отвечают на него разные мировые религии?
Рассмотрим вначале брахманизм и буддизм. Обе эти религии монистичны и пессимистичны. Буддизм представляет собой лишь особое выражение брахманской мысли.
Первоначальной религией Индии был политеизм. Гимны Вед, наиболее древней священной книги индийцев, обращены к индийским богам. Позднее среди жрецов, служивших этим богам, возник и получил распространение более глубокий образ мыслей, уводящий за пределы политеизма. Как это произошло, мы пока не можем полностью объяснить. Начало этих идей следует, вероятно, искать в желании жрецов приобрести таинственную власть над самими богами путем познания истинной природы вещей и достижения внутренней свободы от мира.
Возникновение брахманизма относится приблизительно к 1000 г. до н.э. Первые его проявления мы находим в Упанишадах, цель которых состояла в том, чтобы, так сказать, раскрыть и выдвинуть на первый план тайный, более глубокий смысл ведических гимнов. Вершиной брахманского мышления является учение Веданты, изложенное в "Брахмасутрах". Слово "Веданта" означает конец Вед, "сутра" — нить; сутры — это короткие ключевые фразы, служащие для запоминания брахманского учения.
Учение брахманизма заключается в следующем. Весь мир, в том виде, в котором я вижу его, когда оглядываюсь вокруг, и который познаю на опыте, есть не что иное, как видимость, несовершенное явление чистого бытия, сущность которого есть Брахман, мировая душа. Из этого самого универсального, самого чистого бытия происходит все существующее. Даже боги, как говорится в одном из ведических гимнов, пребывают в нем "как коровы в коровнике". Этим объясняется, почему брахманизм, несмотря на то что он пришел к представлению о едином и всеобщем высшем бытии, мирится с существованием политеизма. Он смотрит на богов просто как на наивысших из всех сотворенных существ.
Природный мир несовершенен, потому что он представляет собой круговорот рождения и умирания, умирания и рождения. Он несовершенен еще и потому, что воля к жизни одного живого существа находится в противоречии с волей к жизни другого, и поэтому одни причиняют боль и страдание другим.
От этого несовершенного мира печали человек освобождает себя путем познания и действий, вытекающих из того, что он узнал. Вновь и вновь он говорит себе, что все, что он видит, и все, что происходит вокруг него, — это не более чем беспорядочная игра, от которой ничего нельзя ждать и в которой он не должен принимать никакого участия. Его цель, следовательно, может заключаться только в том, чтобы уйти из мира чувств в мир чистого бытия. Отныне он не будет ни цепляться за жизнь, ни интересоваться этим миром. Он должен возвыситься до такого состояния, которое позволит ему полностью прекратить всякую деятельность и освободиться от всех привязанностей. Он не должен теперь иметь никаких желаний в этом мире, не должен ожидать чеголибо от него. Умереть для мира и для своей собственной жизни — это
157
его духовное призвание. Погружаясь все более и более в вечное чистое бытие, он придает своей жизни истинный смысл.
Всякое естественное существование продолжается в бесконечном цикле перевоплощений. Мистическим актом познания, в результате которого воля к жизни умирает, подобно пламени, не находящему больше пищи, душа может быть избавлена от цикла перевоплощений.
Посредством медитации человек должен стараться достигнуть состояния отрешенности от мира, которое само по себе уже приближается к состоянию абсолютного бытия. Упанишады содержат подробные инструкции относительно позы, направления взгляда и контроля над дыханием, которым нужно следовать, чтобы достигнуть этого бессознательного состояния.
Аскетизм и самоистязание следует использовать как средства, помогающие уничтожать волю к жизни. Достигнув определенного возраста, брахман должен удалиться в джунгли, стать отшельником и завершить процесс умирания для мира — добровольной смертью положить конец своему существованию.
В основе буддизма лежат те же основополагающие идеи. Он отличается от брахманизма следующим. Во-первых, буддизм в принципе значительно безразличнее к политеистическому культу, чем брахманизм. Далее, он не одобряет ученые споры и попытки проникнуть в природу существующего. Он довольствуется знанием, что все происходящее в пределах цикла рождений и умираний есть страдание и что важно лишь одно: вырваться из этого цикла и достигнуть бесстрастного состояния — нирваны.
Кроме того, в отличие от брахманизма буддизм отвергает всякий аскетизм, самоистязания и добровольное расставание с жизнью. Главное то, говорит Будда, что я освобождаюсь от мира мысленно. Если я сделал это, в истязании тела уже нет необходимости. Я могу жить в спокойной безмятежности, как человек, который знает, что в действительности он не живет более, а уже достиг покоя.
У Будды мотивы отказа от жизни и от мира абсолютно прозрачны и понятны; поэтому в своих чувствах он более естествен и более человечен, чем брахманы. Это проявляется, в частности, в том, что он придает гораздо· большее значение состраданию, которое мы должны проявлять ко всем страдающим живым существам.
Будда, как вы знаете, жил в конце VI — начале V столетия до н.э., приблизительно в 557—477 гг. Родившись в княжеской семье, он бежал из своего дворца, оставив жену и ребенка, чтобы посредством аскетизма и самоистязаний достигнуть уверенности в спасении. Однако просветление, которого он так страстно желал, не было даровано ему до тех пор, пока он снова не начал принимать пищу и питье и не прекратил истязать свое тело. Именно по этой причине он проповедовал спасение как нечто такое, чего можно достигнуть только через знание, без аскетизма и самоистязаний.
Будда не собирался основывать новую религию. Он хотел лишь учредить монашеский орден, в котором спасение должно было осуществляться без брахманских сумасбродств. Позднее, однако, к его учению начали относиться как к религии. На протяжении столетий буддизм имел в Индии много последователей. Постепенно он был вытеснен (главным образом индуизмом) и уцелел лишь на Цейлоне и в Непале. С другой стороны, он успешно распространялся в Китае (начиная с I столетия н.э.), в Тибете (с VII столетия), а также в Японии, Маньчжурии, Монголии, Бирме и на Зондских островах. Следует сказать, однако, что в буддизме, ставшем мировой религией, мало что осталось от первоначального буддизма. Он смешался с легкомысленным политеизмом и утратил былое величие и уникальность своих идей.
Что можно сказать о Евангелии Иисуса в сравнении с брахманизмом и буддизмом? Познакомившись со всеми тремя, прежде всего чувствуешь присущую ему особенную скромность. Брахманизм и буддизм верят, что они приподняли завесу и нашли решение загадок мира и человеческой жизни. Эта самоуверенность "тех, кто знает" чувствуется в индийской литературе. Кто работал в Индии, тот наблюдал это в людях, с которыми ему приходилось иметь дело. Это важная черта индийской религии. Иисус ведет нас не к самоуверенности, а к смирению. Он пробуждает в нас страстное желание хоть как-то предвосхитить тайну Царства Божьего. В Первом послании к коринфянам (гл. 13) апостол Павел с большой силой говорит о том, что даже наше наивысшее знание всегда несовершенно.
Наличию небольшого числа точек соприкосновения между христианством и индийской религией с ее отрицанием жизни и мира некоторые придавали настолько преувеличенное значение, что даже приходили к убеждению, будто христианство возникло из идейных течений, пришедших из Индии. Эту мысль как одну из самых важных защищает философ Артур Шопенгауэр (1788—1860) в своей книге "Мир как воля и представление" (1819). Он полагает, что индийская религиозность выше христианства, так как она есть результат логически последовательного размышления о вселенной.
С тех пор неоднократно приходилось слышать утверждения (особенно от теософов), что индийская религия и христианство — это, в сущности, одно и то же. Вновь и вновь высказывают предположение, что во времена Иисуса индийские эзотерические учения были известны в Палестине. От еврейского писателя Иосифа Флавия (I столетие н э.) мы знаем о ессеях — иудейской секте, члены которой жили поблизости от Мертвого моря. Несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств, утверждалось, что эта секта была знакома с индийской мудростью и, более того, что Иисус — хотя об этом вообще нигде не упоминается — поддерживал контакт с этой сектой, что ессеи посвятили Его в тайну вышеупомянутых индийских учений и что впоследствии Он проповедовал их в форме евангелия любви, облачив в иудейские одеяния. В некоторых теософских жизнеописаниях Иисуса доходили даже до утверждений, что мальчиком Иисус жил в буддийском монастыре. Некто Никола Нотович заявил, что он обнаружил соответствующие документы в одном буддийском монастыре в Тибете. Фальшивые выдержки из этих якобы найденных документов он опубликовал в книге "La Vie inconnue de Jesus-Christ" (Pans, 1894)'.
Все это выдумки. Иисус не находился ни под влиянием брахманов, ни под влиянием Будды. Говоря это, я вовсе не утверждаю, что индийская мысль не могла быть в то время известной на Ближнем Востоке. Сейчас трудно установить, насколько тесными были связи между разными странами во времена Иисуса. Многие склонны думать, будто путешествия стали возможными лишь благодаря пароходам и железным дорогам. Однако вполне вероятно, что в начале нашей эры люди путешествовали на значительно большие расстояния, чем мы предполагаем. Кроме того, в те времена путешествия больше способствовали распространению идей, чем в наши дни. Путешественники не останавливались в международных отелях. Они жили среди народа и странствовали по миру в поисках или ради распространения истины.
Некоторые факты показывают, что в древние времена обмен идеями между Индией и Ближним Востоком был более интенсивным, чем принято обычно считать. Платон, например, по всей вероятности, был знаком с индийскими учениями. В противном случае невозможно объяснить, каким образом в его философии (а также в греческих тайных учениях, приписываемых певцу Орфею) отрицание жизни и мира выступает в связи с учением о переселении душ, идентичным тому, которое мы находим в Индии.
Решающим обстоятельством, однако, является отсутствие связи между содержанием идей Иисуса, с одной стороны, и брахманов и Будды — с другой.
В самом деле, христианство находится примерно в таком же соотношении с индийскими религиями, как и с религиозностью грековосточного типа. Насколько христианство является пессимистической религией — ровно настолько и не больше — можно говорить о наличии между ними определенного внешнего сходства. Что же касается их внутренней природы, то здесь они абсолютно не похожи. Брахманы и Будда говорят человеку: "Как умерший для мира и больше не имеющий в природном мире никаких интересов, ты должен жить в мире чистой духовности". Евангелие Иисуса говорит ему: "Ты должен стать свободным от мира и от самого себя, чтобы действовать в этом мире в качестве одной из сил Божьих".
В индийской религиозности божественное представляется чистым духовным бытием. Это океан, в который хочет погрузиться уставший плыть человек. Бог Евангелия Иисуса — это живая этическая Воля, желающая дать моей воле новое направление. Он говорит мне: "Плыви смело! Не спрашивай, куда приведут тебя твои усилия в бесконечном океане. Ты должен плыть — такова моя воля".
Здесь мы подходим к фундаментальному различию между индийскими религиями и христианством. Брахманизм и буддизм этичны лишь в своих словах, но не в делах. Это неизбежное следствие индийского мышления, и его нужно выставить на видное место.
Мы не можем допустить, чтобы эта религия представлялась высшей формой религии любви на том основании, что она возникла в результате чистого размышления о мире. Борьба между брахманизмом и буддизмом, с одной стороны, и христианством — с другой, — это борьба между духовным и этическим. Снова и снова в спорах с нами индийцы будут говорить: "Духовность не есть моральность", т.е. стать духовным существом, растворившись в Боге, — это само по себе является в конечном счете наивысшей ценностью и потому стоит выше всякой этики. Мы же, христиане, говорим: "Духовность и моральность — это одно и то же. Высочайшая духовность достигается глубочайшей моральностью и в глубочайшей моральности постоянно выражается".
Индийская религия охотно представляет себя религией вселенского сострадания. Она много говорит о сострадании, которое мы должны чувствовать ко всем живым существам. Однако в то же самое время она проповедует идеал полного отсутствия интереса и прекращения всякой деятельности и утверждает, что даже энтузиазм, направленный на созидание добра, следует рассматривать как страсть, которая в конечном счете должна быть преодолена. Брахманист и буддист не переходят от интеллектуального сострадания к деятельному. Зачем, в самом деле, оказывать материальную помощь нуждающемуся? Единственная помощь, которую они могут предоставить, не противореча при этом сами себе, — это дать человеку возможность "заглянуть за занавес" и объяснить ему, что он должен умереть для жизни и мира и таким путем возвыситься до бесстрастного состояния.
В индийском мышлении этический элемент поглощается интеллектуализмом, подобно тому как облако, обещавшее дождь, растворяется в знойном воздухе.
В Евангелии Иисуса, напротив, не только нет места холодному, обдуманному покою, из которого нас не должно выводить воздействие окружающего мира, но оно пробуждает энтузиазм к деятельности в духе любви в соответствии с волей Божьей. Внутренней сущностью его является величайший этический энтузиазм.
Теософия, которая пытается создать единую религию и, следовательно, соединить вместе индийскую и христианскую религиозность, поставила себе нелегкую задачу, ибо эти религии абсолютно различны по своему характеру. Обычно она жертвует христианским мышлением ради индийского. Первое она использует лишь для того, чтобы придать более сильную этическую окраску второму.
Есть еще один аспект, в котором обнаруживается существенное различие между рассматриваемыми индийскими религиями и христианством. Учение брахманов и Будды о спасении — это учение только для священников и монахов, ибо только они одни имеют возможность жить в соответствии с религией ухода от мира. Об этом факте пропагандисты индийской религиозности обычно умалчивают. Как часто я вынужден был обращать внимание даже мыслящих людей на то, что брахманизм и буддизм — это религии не для простых людей, но только для монахов. Самые глубокие рассуждения Будды заключаются обычно словами, напоминающими нам, что здесь не просто человек говорит с человеком, а индийский монах обращается к индийским монахам. И все очарование пропадает.
Брахманизм и буддизм ничего не могут предложить тем, кому обстоятельства не позволяют уйти от мира и посвятить свою жизнь самосовершенствованию, стоящему вне и выше всяких дел. Человеку, который пашет землю или работает на фабрике, они не могут сказать ничего, кроме того, что он еще не достиг истинного знания, иначе бы он прекратил деятельность, привязывающую его к этому обманчивому и полному страданий чувственному миру.
Евангелие Иисуса обращается к человеку как таковому и учит его тому, чтобы, живя и работая в этом мире, он был внутренне свободен от него. Сила духа Иисуса замечательно выражена в словах Павла в Первом послании к коринфянам (гл. 7) о том, что мы должны быть "и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие". В одухотворении освобождения от мира заключено решение проблемы. Достигнуть свободы от мира в духовном смысле доступно каждому. Внешняя свобода всегда будет привилегией немногих, тех, кто может позволить себе выйти за рамки обычных жизненных обстоятельств и создать для себя исключительные условия. И, поступая так, они всегда будут зависеть от помощи тех, кто живет обычной жизнью. Что стало бы со святыми монахами Будды, если бы они не могли просить пищу у людей, продолжающих возделывать землю?
Есть, однако, одно обстоятельство, которое мы должны признать: индийские религии учат людей сосредоточенности. Не одним только самомнением объясняется превосходство, с которым их представители относятся к нам, бедным европейцам. Они понимают, в чем слабость современной христианской веры. Мы слишком склонны представлять себе христианство просто как деятельность. Нам недостает обращенности внутрь себя, мы недостаточно уделяем внимания собственной духовной жизни, нам не хватает спокойствия. И не только потому, что при нашей изнурительной, беспокойной жизни этого трудно достигнуть. Главная причина в том, что, не придавая всему этому важности, мы не прилагаем в этом направлении никаких усилий, слишком легко удовлетворяясь той жизнью, которую ведем, — бездумной жизнью несобранных людей, старающихся всего лишь быть добрыми.
Одним словом, брахманизм и буддизм воздействуют тем, что они представляют собой тип религии, обладающей внутренним единством, являющейся результатом последовательного размышления о мире и о жизни. Они выражают логически правильный монистическипессимистический взгляд на мир и на жизнь. Но эта религия бедна. Ее Бог — это всего лишь чистая, бессодержательная духовность. Последнее слово, с которым она обращается к человеку, — это полное отрицание жизни и мира. Ее этическое содержание скудно. Это мистика, побуждающая человека отказаться от жизни ради слияния с Богом, которое есть смерть.
Вступая с нами в дискуссию по религиозным вопросам, индийская мысль сознает эту свою бедность. Вновь и вновь пытается она придать более теплое освещение своей холодной мистике, чтобы она могла играть этическими красками. Но эти усилия напрасны. Претендуя, и совершенно справедливо, на то, чтобы ее рассматривали как результат логического размышления, индийская религиозность может утверждать только то, что вытекает из ее собственных идей. И насколько это от нас зависит, мы не должны допускать, чтобы она представлялась не тем, чем является в действительности — отрицанием жизни и мира, желающим быть религией и этикой.
Освобождение, которому она учит, — освобождение путем погружения в духовное — представляет собой нечто величественное. Цельная и внутренне завершенная, она обладает страшной притягательной силой для мыслящего человека. Мы, однако, стремимся к иному бытию в Боге. Мы хотим, чтобы наше бытие в Боге проистекало из живой этической духовности, из деятельности, которую мы осуществляем в качестве Его силы. Только такое освобождение от мира может удовлетворить стремление нашего сердца. Поэтому, хотя нам и знакомы чары логически последовательной религии, мы стоим за христианство, со всей его простотой и всеми его антиномиями. Оно истинно и ценно, так как отвечает глубочайшим побуждениям нашей воли к жизни.
Религия — это нечто большее, чем отрицание жизни и мира.
Оставим на время Индию и перенесемся через Гималайские горы в Китай. Там мы обнаруживаем религию совершенно противоположную брахманизму и буддизму. Если индийская религиозность монистическипессимистична, то китайское религиозное мышление монистически-оптимистично.
Все ведущие религиозные мыслители Китая сходятся между собой в убеждении, что силы, которые действуют в мире, — это благие силы. Поэтому истинная набожность заключается, по их мнению, в том, чтобы понимать смысл мира и действовать в согласии с этим смыслом. Будучи последовательными монистическими мыслителями, они, подобно брахманам и Будде, не доходят до идеи личного Бога; но если для индийцев Бог остается абсолютной, безжизненной духовностью, то для китайцев он есть просто совокупность всех действующих в мире сил. Эту стоящую выше всех вещей и одновременно пребывающую во всех вещах силу они называют Небом.
Эта религиозная философия природы не видит необходимости вступать в спор с традиционной народной религией; она допускает существование последней в качестве популярной в народе формы религиозного культа. Обосновать такую позицию не составляет особого труда, поскольку народный культ представляет собой всего лишь непритязательное поклонение предкам, героям и духам.
В наиболее развитой форме эта религиозная философия природы представлена у Лао-цзы (начало VI в. до н.э.). Он оставил после себя только одну маленькую книжку изречений, известную под названием "Дао дэ цзин", что переводится приблизительно как "Трактат о жизни согласно смыслу бытия". Это название было дано книге императором Хань Гиньди, который правил в 156—140 гг. до н.э. и был поклонником Лао-цзы.
Что значит думать и жить в соответствии со смыслом бытия и в гармонии с Небом? Это значит стать подобным силам природы.
В чем сущность сил природы? Они действуют ненавязчиво, бескорыстно, не проявляя никакой наружной суеты, — единственно за счет внутренней силы. Вот почему они достигают таких великих результатов. Такого рода силами должны стать и мы.
Чего хочет от нас Небо? Чтобы мы были кроткими и миролюбивыми, чтобы мы воздерживались от самоутверждения. Небо не требует от нас, чтобы мы горели энтузиазмом и изнуряли себя в непрерывных трудах, пытаясь делать добро; ибо ничего такого нельзя усмотреть в работе сил природы. Созерцательный мистицизм, освещаемый мягкой этикой, — такова религия, к которой приходит Лао-цзы в результате своих раздумий о мире. В возвышенных выражениях он осуждает войну:
Когда воюющие стороны сходятся в битве,
Тот, кто имеет жалость, побеждает.
Бряцание оружием — это плохое предзнаменование;
Оружие — не средство для благородного мужа,
Который пользуется им, только если его к этому вынуждают.
Мир и спокойствие — вот что он высоко ценит.
Когда он побеждает, он не радуется.
Радоваться победе — значит радоваться убийству людей.
Победу в битве следует отмечать похоронной процессией.
Кун-цзы (Конфуций, 560—480 гг. до н.э.), Мэн-цзы (372—289 гг. до н.э.) и Мо-цзы (живший, по-видимому, во второй половине V в. до н.э.) идут дальше Лао-цзы. В деяниях Неба они стараются найти гораздо больше активного добра, чем находил он. В отличие от него, они добавляют к идеалу благочестия активную любовь. Во многих аспектах эти мыслители близки духу Иисуса. Он оценил бы их, как оценил книжника, который понял наибольшую заповедь и которому Он сказал: "Недалеко ты от Царства Божия"*.
Мо-цзы идет в этом направлении дальше всех. Он требует безграничной любви к человеку. Он оставил нам следующие прекрасные слова: "Мы должны делать то, что Небо хочет от нас, и воздерживаться от дел, неугодных Небу. Что же Небо желает и чего оно не желает? Небо желает, чтобы люди любили друг друга и были полезны друг другу, и не желает, чтобы они обманывали друг друга и причиняли зло. Откуда нам это известно? Из того, что Небо любит всех без исключения и служит нуждам всех. А это мы знаем из того, что все находятся во власти Неба, и оно кормит всех без исключения".
В то время в Китае были люди, путешествовавшие по всей стране в качестве провозвестников любви и мира. Именно там появились первые пацифисты (вероятно, в V в. до н.э.). В тексте, дошедшем до нас вместе с писаниями философа Чжуан-цзы, о них говорится следующее: "Они хотели объединить людей посредством горячей любви во всеобщее братство. Их правилом было бороться с вожделениями и злыми страстями. Когда их поносили, они не считали это позором; им не нужно было ничего — только бы избавить людей от ссор.
Они запрещали нападать на соседей и проповедовали разоружение, чтобы избавить человечество от войн. Это учение они несли по всему миру. Они увещевали властителей и учили их подданных. Даже если мир не хотел принять их учение, они придерживались его еще тверже".
Этими религиозными китайцами, как и современными христианами, владела мечта о Царстве Божьем, которое осуществится на земле благодаря любви. Не будем преуменьшать значение того факта, что мы находим христианские идеалы у не-христиан, живших много веков назад в далекой стране. Это было бы не в духе Иисуса. Будем радоваться истине, где бы ни горел ее свет.
Однако китайская религия построена на песке. Она основана на предположении, что, вглядываясь в действие сил природы, мы можем прочесть в них все то, во что мы верим и что утверждаем в религии любви, и, следовательно, размышление о природе вселенной приводит нас к этой религии. Таким образом, китайские мыслители пытаются сделать вид, что в основе религии любви лежит познание мира. Но это иллюзия. Познание мира не ведет столь далеко. Уже Лао-цзы ясно понимает это. Поэтому он выдвигает бесцветную этику поведения согласно смыслу мира и отвергает всякую энтузиастическую этику любви. Те мыслители, которые, следуя ему, стоят на почве реальности, не могут не оставаться в пределах тех границ, которые он наметил. Наиболее значительным среди них был Чжуан-цзы (IV в. до н.э.). Он горячо возражает Конфуцию, Мэн-цзы и другим апостолам любви и с беспощадной ясностью показывает, что жизнь согласно смыслу бытия не требует от человека того, что они проповедуют. Чжуан-цзы, подобно Лао-цзы, становится созерцательным мистиком. Его философия природы, религиозная и в то же время строго реалистичная, во многом напоминает философию стоиков и Спинозы.
Религиозная мысль Китая не привлекала к себе столько внимания, сколько индийская. Лишь недавно мы начали знакомиться с ней более серьезно. Должен признаться, что знакомство с этими мыслителями было для меня жизненно важным опытом; особенно сильное впечатление произвели на меня Лао-цзы и Мэн-цзы. Они намного ближе нам, чем индийцы, так как не склонны, подобно последним, к надменному отрицанию жизни и мира, а борются за достижение истинно этической религиозности. Китайская религия, в отличие от брахманизма и буддизма, не только внешне напоминает Евангелие Иисуса, но, движимая великой заповедью любви, во многих отношениях обнаруживает истинное духовное родство с Евангелием.
В одном отношении, однако, религия Китая так же далека от нас, как и индийская: она пытается быть единым, логически завершенным знанием о мире. Насколько китайские мыслители этичны, настолько они идеализируют действующие в мире силы природы и приписывают им этический характер. Когда же они отваживаются взглянуть в лицо реальности, они вынуждены привернуть фитиль в лампе этики, так что в результате от яркого света остается лишь тусклый огонек. Пленники своего монизма, они гонятся за иллюзией — что религия будто бы может найти себе оправдание в знании о мире. Когда им не удается понять смысл мира как деятельность сил любви, они приходят к холодной религии, а то и к скептицизму. Так, среди китайских мыслителей есть и такие, которые говорят: "Смысл мира заключается в том, что в ожидании неминуемой смерти мы пользуемся жизнью". Наиболее известен из них Ян-Чжу (около IV в. до н.э.).
Мы, однако, уже отбросили иллюзию, что живая, этичная религия может быть логическим результатом познания мира. Мы убеждены, что не можем из мира почерпнуть наше знание о Боге, который является этической Личностью. Перед лицом страшной загадки, которую являет нам мир, мы всеми силами стараемся не ошибиться в своем представлении о Боге. Мы отваживаемся допустить, что силы, действующие в природе, во многих отношениях не таковы, какими они должны были бы быть в мире, обязанном своим происхождением совершенной, благой творческой воле. Мы отваживаемся допустить, что в природе и в нас самих есть много такого, что мы ощущаем как зло. Намного глубже, чем религиозные мыслители Китая, понимаем мы, что такое грех; и гораздо глубже, чем они, чувствуем, что Бога нельзя "знать": мы должны постигать его той верой, которая говорит: "Что бы ни было, я всегда с Тобою"*.
Брахманам и Будде мы говорим: "Религия — это нечто большее, чем пессимизм, отрицающий жизнь и мир". Религиозным мыслителям Китая мы говорим: "Религия — это нечто большее, чем этический оптимизм". И тем, и другим мы говорим: "Религия не есть знание о Боге, приобретенное путем созерцания природы". Бог для нас — это что-то иное, чем просто духовная сила, лежащая в основе мира. Монизм и пантеизм, какими бы глубокими и религиозными они ни были, не доходят до последней, самой глубокой религиозной проблемы. Эта проблема состоит в том, что Бог, действие которого мы испытываем в нас самих, отличен от Бога, которого мы находим в природе. В природе мы познаем Его только как безличную творческую силу; в самих себе — как этическую Личность.
Этот таинственный разлад между Богом и миром, о котором мы знаем по своему внутреннему опыту, мы принимаем в нашу религию, так же как делает это Иисус в своем Евангелии. Унифицированную логически последовательную религию брахманов. Будды и религиозных мыслителей Китая мы оставляем позади как наивность. Она не отвечает той реальности вне и внутри нас, о которой говорит наш опыт.
Вернемся теперь в Индию и посмотрим, что представляет собой индуизм. Именно с ним в основном приходится сталкиваться миссионерам, работающим в Индии. И именно индуизм пытается предстать перед миром в качестве религии, стоящей выше христианства.
Что такое индуизм и как он соотносится с брахманизмом и буддизмом?
Индуизм — это народное религиозное движение, возникшее параллельно с брахманской философией, но более или менее зависящее от нее. Его возникновение относится, вероятно, к IX в. до н.э. Он зародился в сектах, пытавшихся ввести философскую религию брахманов в религию низших каст (тогда еще не затронутую брахманизмом), и таким образом открыть путь к спасению также и этим кастам. В то же время индуизм отражает потребность в религии, которая была бы более живой и больше говорила сердцу человека, чем брахманизм и буддизм. В отличие от них, он не просто идет бок о бок с традиционным политеизмом, но пытается вдуматься в него и облагородить.
Таким образом, индуизм — это народная религия Индии. Когда буддизм распространился в Индии, индуизм противодействовал его распространению и в конце концов победил его. Когда около 1000 г. н.э. мусульмане вторглись в Индию, они попытались, так же как они это сделали в Персии, военной силой утвердить господство своей религии. Однако они не преуспели в этом. Индуизм продолжал существовать бок о бок с исламом, и каждая из этих религий испытала на себе влияние другой. Известно, что Акбар Великий, мусульманский правитель Дели (1542—1605), пытался основать универсальную религию, сочетающую в себе индуизм, ислам и религию Заратустры с привлечением христианства, с которым он познакомился через португальских миссионеров. Однако его начинание не увенчалось успехом.
Индуизм — это политеизм, несущий в себе желание стать этическим монотеизмом, но не рискующий сделать в этом направлении решительный шаг. Он не собирается лишать политеизм его влияния. Его метод заключается в том, чтобы возвысить одно из высших божеств, обычно Вишну или Кришну, до универсального Бога, включающего в себя все остальные божества. Таким образом, в дискуссии с монотеистическими религиями индуизм выступает как религия тоже монотеистическая; к простым же людям он обращается как политеизм.
Вы можете спросить, как же индусы ухитряются придерживаться монотеистических и политеистических взглядов в одно и то же время? Дело в том, что они не такие неуклюже-прямолинейные, как мы. Они говорят: "Все те боги, которым поклоняется простой народ, — это просто формы, в которых является высший Бог. Во всех них выступает только он один. Следовательно, те, кто поклоняются этим богам, поклоняются в их лице высшему и единственному Богу".
Подобный релятивистский образ мыслей удобен, но очень опасен. Монотеизму постоянно грозит опасность быть уничтоженным политеизмом. Он подобен человеку, запертому в клетке со львом. Как следствие этого, в индуизме монотеизм постоянно принижается политеизмом. Самое неприятное здесь состоит в том, что индуизм допускает существование даже весьма аморальных политеистических культов.
Мы должны поэтому различать индуизм мыслящих индусов и индуизм простого народа. Мы могли бы сказать представителям индуизма: "Прежде чем идти к нам и вступать с нами в дискуссию, вам следовало бы освободиться от идолопоклонства, которое вы вносите в свою религию". Оставим это, однако, на сей раз без внимания. Примем тот идеализированный индуизм, который сегодня в несколько приукрашенном и причесанном виде предлагается Европе, за реальный индуизм и постараемся отдать должное его религиозным идеям, подходя к ним с той меркой, с какой мы должны подходить к самой высокой в духовном и этическом смысле религии.
Индуизм представляет собой реакцию против жесткости и холодности брахманской религии. Он не хочет соглашаться с тем, что Бог есть только абсолютное, безличное духовное бытие; он чувствует необходимость представления, согласно которому высшее духовное бытие есть в то же время личность. Он пытается сочетать в себе теизм и пантеизм. Соответственно его концепция связи между Богом и миром более живая, чем концепция брахманов и Будды. Бог для него — это не только основа существования мира, но и существо, которое любит мир. Поэтому и отношение человека к Богу оказывается намного более живым и религиозным, чем у брахманов и Будды. Хотя индуизм тоже в конечном счете смотрит на религию как на погружение в Бога и умирание в Боге, он в то же время хочет понимать это растворение в Боге как отдачу себя с любовью в Его руки.
Классическое выражение этих глубоких и живых духовных побуждений индуизма мы находим в знаменитой Бхагавадгите (т.е. Песне о Всевышнем). Бхагавадгита — это философско-религиозная поэма, составляющая часть великого индийского эпоса "Махабхарата"'. Она рассказывает, как бог Кришна является герою Арджуне и дарит ему откровение. Всевышний Бог говорит о себе в этой поэме в следующих словах:
Я Сам пребываю в сердце всех существ; Начало, Середина, Конец существ — это Я.
Из светил Я лучезарное солнце; среди созвездий Я луна.
Я Отец этого преходящего мира. Мать, Творец.
Я бессмертие, а также смерть; Я Бытие и Небытие.
После многих рождений мудрый достигает Меня.
Углуби в Меня свое сердце, погрузи свой ум в Меня;
так ты затем будешь пребывать во Мне.
Снова внимай моему всетайнейшему, последнему слову.
Ты мне желанен очень, поэтому скажу тебе на благо.
Размышляй обо Мне, благоговей передо Мной, жертвуй Мне, Мне поклоняйся.
Так ты придешь ко Мне, воистину я обещаю тебе, ты Мне дорог.
Оставив все обязанности, у одного Меня ищи прибежища. Я
избавлю тебя от всякого зла, не скорби*.
Поскольку индуизм пытается понять Бога как этическую Личность, а религию — как отдачу себя Ему с любовью, он временами говорит прямо-таки христианским языком. В действительности именно влияние христианства побудило индуизм к развитию, превратившему его в этическую религию, и христианство повлияло на него в большей степени, чем он готов признать. С XVI столетия он находился в контакте с христианством. За последние сто лет выдающиеся мыслители индуизма придали ему форму, напоминающую религию любви намного определеннее, чем когда бы то ни было раньше. Некоторые из них даже ставили себе целью соединение индуизма и христианства. Если бы не Евангелие Иисуса, индуизм сегодня не был бы таким, каков он есть, — ни фактически, ни в идеале.
Движимый этическими идеями, индуизм старается также стать религией действия. Он не ограничивается, как это делали брахманы и Будда, проповедью, что человек становится совершенным путем ухода от мира, но пытается убедить его осуществлять любовь на практике. Как вы знаете, индуизм уже не хочет, подобно брахманизму и буддизму, молчаливо соглашаться с существованием в Индии тяжелых социальных язв (как, например, отчаянное положение вдов). Он интересуется реальной жизнью и пытается, хотя и робко, проводить реформы.
Итак, что же представляет собой индуизм, если судить по самым высоким идеям, которые в нем зарождаются? Это реакция против абсолютного, пессимистического отрицания жизни и мира, присущего брахманской и буддийской религиозности, и в то же время это попытка подняться от мертвого монизма и пантеизма к представлению о личном, живом, этичном Боге. Но чтобы стать живой, этической религией, индуизм отказывается от безупречной последовательности и логической полноты брахманской и буддистской религиозной мысли. Чтобы получить ценные результаты, он подгоняет разнородные идеи друг к другу. Он во всех отношениях представляет собой религию компромисса. Политеизм и монотеизм, пантеизм и теизм, интеллектуальный мистицизм и благочестие, идущее от сердца человека, духовная религия и популярные культы — все это он пытается объединить в единое целое, не признавая очевидной невозможности такого соединения. Он живет в мире не до конца определенных понятий и половинчатых утверждений. В этом его сила — ив этом же его слабость.
Индуизм не способен стать по-настоящему этической религией, так как это значило бы порвать с политеизмом. Он не способен на это также и потому, что в конечном счете не может заменить брахманское мировоззрение никаким другим. Как только индуизм осмеливается мыслить последовательно — это относится как к его более древним, так и к современным представителям, — он снова скатывается к брахманскому образу мыслей. Вне брахманизма его свобода передвижения весьма ограниченна, и он напрасно старается скрыть цепь, которой прикован.
Это обнаруживается в Бхагавадгите, в рассказе о том, как Арджуна, которому предстоит подать сигнал к началу битвы, стал сомневаться, вправе ли он убивать людей. Тогда ему является Всевышний Бог и в продолжительной беседе разъясняет, что рассмотрению подлежит в конечном счете не действие само по себе, а тот дух, в котором это действие выполняется. Если бы он, Арджуна, ринулся в битву без капли сомнения, испытывая удовольствие от убийства своих врагов, это было бы злым делом. Но если он понимает, что все происходящее, включая борьбу и убийство, происходит по воле Бога, для которого мы являемся лишь орудием, его сомнения должны исчезнуть. Мудрость заключается в понимании того, что все, что существует, существует в Боге, и все, что происходит, происходит в Боге. Дело, следовательно, только в том, чтобы человек в процессе всех своих действий не терял сознание того, что он выполняет эти действия из преданности Богу, как нечто желаемое Им; в этом случае он, будучи в Боге, становится выше добра и зла.
Следовательно, если Арджуна подумал о том, что смерть его врагов уже предрешена Богом и он является лишь орудием для осуществления божественного замысла, он может со спокойной совестью садиться в свою колесницу и пустить в дело копье и меч. Обрадованный этим решением, герой подает сигнал к началу битвы.
В этом известном отрывке из Бхагавадгиты решается судьба индуизма как этической религии. Индуизм не осмеливается продумать идею этичного Бога до конца. Когда он подходит к великой проблеме: каким образом Бог может быть понят как движущая сила всего, что происходит в мире, и в то же время как Бог любви, требующий от нас действовать в любви, и только в любви, — он не удерживается на уровне этической религии и снижается до своего первоначального неэтического или, лучше сказать, надэтического уровня. Вместо того чтобы принять все то, что вытекает из признания себя этической религией, он находит убежище в пустоте пантеистических софизмов.
Религия, как я уже говорил, — это поиск ответа на вопрос: как человек может существовать в одно и то же время в Боге и в мире. Брахманизм и буддизм дают такой ответ: "Становясь безучастным к миру и к жизни, ибо Бог — это чистая духовность". Индуизм отвечает так: "Выполняя всякое действие, как нечто желаемое Богом, ибо Бог
— это сила, которая производит все во всем". Пытаясь представить Бога и мир совпадающими друг с другом, индуизм затемняет ту самую разницу между добром и злом, которую он в других отношениях живо чувствует. Почему? Потому, что он хочет быть религией, объясняющей все, последовательной религией, вытекающей из логически правильного размышления о мире.
Те из вас, кому предстоит отправиться в Индию и иметь дело с индуизмом, возможно, удивлены, что я так мало говорю о его компромиссах с суеверием и с низшими формами религии или о других его уязвимых местах, а сосредоточил все внимание на одном вопросе: насколько велико его стремление быть по-настоящему этичным. Я сделал это преднамеренно, ибо это единственный решающий пункт. Здесь обнаруживается контраст не только между христианством и индуизмом, но и между христианством и всеми восточными религиями, о которых мы здесь говорили. Чувство превосходства, с которым смотрят на нас представители этих религий (идет ли речь о брахманах и Будде, или о Лао-цзы и Чжуан-цзы, или о древних и современных индийских мыслителях), основано на том, что эти религии, как они утверждают, — а это действительно так — произошли от размышления о мире. Любая из них — это религиозная философия природы, пессимистическая или оптимистическая. В этом секрет их силы и все возрастающей привлекательности для нас, людей Запада. Эти логически последовательные религии действительно заставляют нас почувствовать справедливость того высокого мнения, которое они имеют о самих себе! Те из вас, кто работал в Индии или Китае, кое-что знают об этом; и в людях, и в книгах, приходящих к нам с Востока, это чувствуется настолько сильно, что мы испытываем чуть ли не страх.
Как умозрительные теории мира, эти религии неуязвимы. Любая религиозная философия природы, так или иначе, но идет аналогичными путями — либо к пессимизму, либо к оптимизму. Как близко стоики, гностики, Спиноза и представители спекулятивной немецкой философии соприкасаются своими основными идеями с религиями Востока!
Религия, однако, должна не только объяснять мир. Она должна также отвечать на вопрос: к чему я стремлюсь в своей жизни. Последнее и решающее суждение о религии должно производиться в зависимости от того, является ли религия истинно этической и насколько жизненна ее этика. Этой последней проверки логические религии Востока не выдерживают. Они стремятся к зтике. Они тянутся к ней мысленно; но они не достигают цели. Ветвь, которую они нагибают к себе, ломается в их руках и взвивается вверх, не дав им возможности прикоснуться к плоду, который они так хотели сорвать.
Отрывок из Бхагавадгиты, на который я ссылался, недаром получил известность. Он ведет нас в самый центр трагической борьбы логически последовательных религий за этику. В конечном итоге они спасают ее лишь на словах, в действительности же бросают на произвол судьбы; этот факт обнаруживается здесь с ужасающей ясностью.
Логически последовательное мышление о природе вселенной не может прийти к этике. Мы с вами заглянули на поля духовных битв, разыгрывающихся в религиозной философии Востока. Вы заметили, что, чем логичнее и последовательнее эта философия, тем меньше в ней этического содержания. Лао-цзы и Чжуан-цзы — это намного более последовательные мыслители, чем Конфуций и Мэн-цзы, но их философия соответственно менее этична.
На этом крутом повороте мы и встречаемся лицом к лицу с религиями Востока и здесь произносим решающее слово. Их неприступный вид уже не пугает нас. И свое решающее слово мы говорим не как защитники традиционной религии, а как религиозно мыслящие люди, решительно утверждающие, что в нашей религии есть глубина — хотя она и может на первый взгляд показаться наивной.
Всякая мыслящая вера должна выбирать одно из двух: либо быть этической религией, либо религией, которая объясняет мир. Мы, христиане, выбрали первое, как более ценное. Мы отказались от логически завершенной, внутренне непротиворечивой религии. На вопрос, как человек может существовать в мире и в Боге в одно и то же время, мы находим ответ в Евангелии Иисуса: живя и действуя в этом мире так, как если бы мы были не от мира сего...
Таким образом, мы не полагаемся больше на дорогу, проложенную обычным логическим мышлением. Наш путь ведет в область наивности и парадоксов. Но мы идем по нему решительно и с чувством доверия. Даже если от нашего объяснения мира останутся одни обломки — мы держимся религии, которая абсолютно и глубоко этична и которая для нас есть "единое на потребу". То, что в христианстве кажется наивностью, в действительности является его глубокой мудростью.
Наивность бывает двух видов: та, которая еще не осознает всех проблем и еще не стучалась во все двери познания; и наивность другого, высшего сорта, которая есть результат мысли, вникшей во все проблемы, искавшей совета во всех областях знания и в конце концов убедившейся, что мы не можем объяснить ничего, а должны следовать убеждениям, внутренняя ценность которых действует на нас с непреодолимой силой.
По сравнению с логически последовательными религиями Востока Евангелие Иисуса нелогично. Оно заранее предполагает существование Бога, который является этической Личностью и который существует, так сказать, вне мира. Пытаясь ответить на вопросы о том, в каком отношении находятся между собой эта этическая Личность и силы, действующие в мире, христианство не в состоянии выбраться из тумана. Оно должно твердо придерживаться убеждения, что Бог есть совокупность всех сил, действующих в мире, т.е. что все существующее существует в Боге. И поскольку это так, христианская мысль обязана идти по пути монизма и пантеизма. И все-таки оно не удовлетворяется пониманием Бога как совокупности всех действующих в мире сил, ибо Бог монизма и пантеизма — Бог философии природы — безличен и ему нельзя приписать этических качеств. По этой причине христианство принимает все трудности дуалистической точки зрения; оно представляет собой этический теизм и понимает Бога как Волю, которая отлична от мира и вынуждает нас быть иными, чем мир.
Вновь и вновь, на протяжении столетий, христианство пыталось согласовать философскую концепцию Бога с этической, но никогда эти попытки не приносили успеха. И оно несет в себе неразрешенной эту антиномию между монизмом и дуализмом, между логически последовательной и этической религиями.
Точно так же не может христианство сделать окончательный выбор между пессимизмом и оптимизмом. Оно пессимистично не только потому, что, подобно брахманизму и буддизму, понимает, что несовершенство, страдание и горе являются неотъемлемыми особенностями природного мира, но и по другой, еще более важной причине: в человеке оно обнаруживает волю, которая не отвечает воле этического Бога и которая, следовательно, есть зло.
Но в то же время христианство оптимистично, потому что оно не бросает этот мир на произвол судьбы, не уходит, подобно брахманизму и буддизму, в отрицание мира и жизни, а определяет человеку место в этом мире и повелевает ему жить в нем и работать в духе этического Бога. К тому же христианство заверяет его, что так или иначе цель Бога относительно мира и относительно человека осуществится; оно не может, однако, объяснить, как именно это произойдет. Ибо какое значение могут иметь этический характер и этическая деятельность религиозного человека в бесконечности событий, происходящих во вселенной? Чего они могут достигнуть? Мы признаем, что не можем дать никакого другого ответа на этот вопрос, кроме того, что так или иначе воля Бога будет выполнена.
Все религиозные проблемы в конечном счете сводятся к одной: познание Бога, которое дает мне мой внутренний опыт, отлично от того знания о Нем, которое я извлекаю из мира. В мире Он представляется мне таинственной, необыкновенной творческой силой; во мне Он раскрывает себя как этическая воля
В мире Он — безличная сила, во мне Он раскрывается как Личность. Бог, которого я познаю, размышляя о мире, и Бог, которого я ощущаю как этическую волю, не совпадают. Они составляют одно целое; но каким образом — этого я не понимаю.
Какое же из этих двух знаний о Боге является решающим? То, которое дается внутренним опытом, когда я ощущаю Его как этическую волю. Знание о Боге, извлекаемое в процессе изучения природы, всегда несовершенно и неадекватно, так как все вещи в мире воспринимаются нами только извне. Я вижу, что дерево растет, и я вижу, как оно покрывается листьями и цветами; но я не понимаю сил, благодаря которым это происходит; их способность совершать все это остается для меня тайной. В себе же, напротив, я знаю вещи изнутри. Творческая сила, производящая и поддерживающая все, что есть, раскрывается внутри меня в таком виде, в котором я не могу узнать ее нигде еще, а именно как этическая воля, как что-то такое, что желает быть созидающим внутри меня. Эта тайна моего внутреннего опыта является решающим фактором моего мышления, воли и моей способности к пониманию. Все тайны мира и моего существования в мире могут быть в конечном счете так и оставлены нерешенными и неразрешимыми. Моя жизнь полностью и безошибочно определяется таинственным переживанием Бога, раскрывающего себя во мне как этическая воля и желающего овладеть моей жизнью.
Чтобы лучше выразить эту мысль, позвольте мне прибегнуть к такому сравнению. Есть океан — холодная вода без движения. В этом океане, однако, имеется Гольфстрим — поток теплой воды от экватора к полюсу. Спросите любого ученого, как это физически возможно, чтобы поток теплой воды тек среди океанских вод, образующих, так сказать, его берега, движущийся в неподвижном, теплый в холодном; ни один ученый не в состоянии объяснить этого. Подобным же образом существует Бог любви в Боге всех сил вселенной — составляющий с Ним одно целое и, однако, совершенно отличный от Него. И мы позволяем этому потоку захватить нас и нести с собой.
Правда, и христианство всегда пыталось объяснить как можно больше. Для первых христиан решение проблемы заключалось в том, что Бог скоро преобразует этот естественный мир в совершенный мир Царства Божьего. Они горели ожиданием увидеть, как Бог и мир придут таким образом к гармонии и согласию, и страстно мечтали жить в мире, абсолютно гармонирующем с существованием в Боге. Их надежда не осуществилась. Мир продолжал идти своим прежним путем, и в этом ходе событий явственно слышался голос Бога: "Мои мысли — не ваши мысли"*.
С тех пор христиане снова и снова пытались сделать христианство учением, в котором господство этического Бога и ход событий в естественном мире были бы согласованы между собой. Эти попытки ни разу не увенчались успехом. Снова и снова действительность разрушала теории, построенные верой, подобно тому как коварные воды незаметно подтачивают плотину, пока в один прекрасный момент она не обрушивается и не исчезает под водой.
Так христианство было вынуждено один за другим отбросить все обломки объяснений вселенной, которые еще представлялись ему действительными объяснениями. В ходе этого развития христианства все больше и больше проявлялось то, что составляет его истинную сущность. В замечательном процессе одухотворения оно продвигается все дальше и дальше из области безыскусной наивности в область мудрой наивности. Чем больше объяснений ускользает из его рук, тем полнее исполняется первое из обетовании блаженств: "Блаженны нищие духом". Это пророческие слова.
По мере того как христианство осознает свою сокровенную природу, оно начинает понимать, что представляет собой набожность, вырастающую из внутреннего ограничения. Величайшее знание — это знание того, что мы окружены тайной. Ни знание, ни надежда на будущее не могут служить точкой опоры для нашей жизни или определить ее направление. Единственное, чем она определяется, — это наше согласие предоставить себя полностью во власть этического Бога, который открывает Себя в нас, и подчинение нашей воли Его воле.
Всякая глубокая религия — это мистика. Быть свободным от мира через бытие в Боге — таково страстное желание, которое будет жить в нас до тех пор, пока нас не сковало оцепенение бездумия. Однако бытие в Боге, осуществляемое интеллектуальным актом "познания", как понимают его в восточных религиях, всегда остается мертвой духовностью. Оно не дает нового рождения в Боге, выхода к живой духовности. Живая духовность, истинное спасение от мира могут быть достигнуты только таким единением с Богом, которое имеет этическую направленность. Религия Востока представляет собой логически последовательную мистику; одно только христианство является мистикой этической.
Таков наш путь в мире. Мы идем этим путем, не беспокоясь о знании, но вверяя Богу все наши надежды относительно нас самих и мира и обладая всем во всем в радостном ощущении живого Бога.
Первые христиане ждали скорого прихода Царства Божьего, под которым они понимали полное преобразование естественного мира в совершенный. Мы стали более умеренными в своих ожиданиях. Мы больше не думаем о Царстве Божьем, которое простиралось бы на всю вселенную. Мы ограничиваем его пределами человечества и ждем его как чуда, в котором Дух Божий подчинит себе души всех людей.
Предшествующие поколения хотели и были способны верить, что это чудо осуществится в ходе непрерывного постепенного развития. Однако мы, пережив и все еще продолжая переживать время ужасных и бессмысленных событий, чувствуем, как будто страшной силы волна далеко отбросила нас от гавани Царства Божьего, движение к которой мы теперь должны начать сызнова, с трудом выгребая против бури и течения, без всякой уверенности, что мы действительно продвигаемся вперед. Таким образом, и мы, подобно ранним христианам, получили жестокий урок, напомнивший нам слова Бога: "Мои мысли — не ваши мысли". Он ставит перед нами трудную задачу верить в Царство Божье верой тех, кто не видит, но все-таки верит. Мы способны выполнить эту задачу, если мы полностью захвачены Его волей.
Когда вы проповедуете Евангелие, остерегайтесь проповедовать его как религию, которая объясняет все. Я полагаю, что у вас в Англии, как и у нас на континенте, тысячи и тысячи людей потеряли надежду на христианство, потому что видели и испытали на себе зверства войны. Религия, которая, как они верили, содержит в себе объяснение всех вещей, сразу разрушилась, когда столкнулась с необъяснимым.
Десять лет назад, до отъезда в Африку, я готовил к конфирмации мальчиков в приходе св. Николая в Страсбурге. После войны некоторые из них навещали меня и благодарили за то, что я столь недвусмысленно учил их, что религия — это не формула для объяснения всего. Они говорили, что именно это удержало их от разочарования в христианстве, в то время как многие другие из числа побывавших в окопах отказались от него, будучи не подготовленными к встрече с необъяснимым. Проповедуя, вы должны вести людей от желания знать все к знанию единственно необходимого, к желанию быть в Боге и потому не приноравливаться больше к миру, а подняться над всеми его тайнами, став свободными от мира. "Если только у меня есть Ты, я не интересуюсь ничем ни на небесах, ни на земле"*. "Любящим Бога все содействует ко благу"*. Укажите людям на эти слова как на вершину Арарата, на которой они смогут найти убежище, даже если поток необъяснимого затопит все вокруг.
Я боюсь, что мое изложение было слишком односторонним, что я говорил о христианстве и его споре с другими мировыми религиями почти исключительно с философской точки зрения. Простите меня. Поступая так, я следовал своим убеждениям; ибо христианство как наиболее глубокая религия является для меня в то же время наиболее глубокой философией.
Вступая в дискуссию с другими мировыми религиями, христианство должно встретить их во всеоружии своей мудрой простоты. Сталкиваясь лицом к лицу с логически последовательным религиозным мышлением, христианство не должно представлять себя просто историческим откровением. Это была бы ненадежная защита. Христианство не может противостоять этой логически безупречной религиозной философии, если оно не проявляет своей истинной отличительной особенности — не показывает, что оно является более глубоким и более религиозным мышлением. Оно должно апеллировать не только к историческому откровению, но также и к тому внутреннему откровению, которое согласуется с историческим и непрерывно подтверждает его. Оно должно показать, что его позиция — не претендовать на право считаться логическим, самодостаточным знанием — является единственно правильной и что та противоречивость и та неполнота, с которыми оно мирится, — это не ошибки в рассуждении, а неизбежные несовершенства мышления, пытающегося проникнуть в глубь вещей.
Христианство должно ясно и определенно поставить человека перед необходимостью выбора между логически последовательной и этической религией; оно должно настаивать на том, что этическое представляет собой высший тип духовности и что только оно является живой духовностью.
Этим христианство проявляет себя как религия, которая, постигая и превосходя всякое знание, стремится к этическому живому Богу, который не может быть найден путем созерцания мира, а открывает себя только в человеке И христианство говорит это со всей авторитетностью, основанной на сознании своей внутренней правоты.
Где бы ни пришлось вам защищать христианство в его споре с другими мировыми религиями, вы должны пользоваться только этими незапятнанными духовными средствами защиты.
И вы должны делать это кротко и скромно. Глубокая истина не выступает с настойчивыми требованиями. Более того, горькое унижение ждет всех нас, проповедующих Евангелие в отдаленных странах. "Где же она, ваша этическая религия?" — этот вопрос нам задают повсюду, где бы мы ни появлялись, будь то среди первобытных народов или среди образованных людей Востока и Африки.
Все, что христианство сделало как религия любви, уничтожено, по их мнению, тем фактом, что оно не смогло воспитать христианские народы в духе миролюбия и что в последней войне оно так тесно связало себя с мирскими интересами и с людской ненавистью, от которых не освободилось и до сегодняшнего дня. Это было ужасной изменой духу Иисуса! Проповедуя Евангелие в удаленных миссиях, не будем преуменьшать значение этого прискорбного факта и пытаться наводить лоск на неприглядную действительность. И ведь почему мы пали так низко9 Потому, что вообразили себе, что обладать духом Иисуса легко Впредь мы должны бороться за него намного серьезнее
Проповедуя сегодня Евангелие в других странах, мы являемся форпостом армии, которая испытала поражение и теперь должна снова прийти в боеспособное состояние. Но мы хотим мужественно продолжать свое дело. Истине, которую несет в себе Евангелие Иисуса, не могут повредить ни ошибки людей, ни их неверность И если только своей бескомпромиссностью по отношению к миру мы сами хотя бы частично покажем, что значит быть захваченным волей живого этического Бога, — тогда какая-то часть истины Иисуса будет исходить и от нас.
Особый смысл видится нам в словах Писания, принадлежащих Павлу, апостолу язычников "Царство Божие не в слове, а в силе"*. Это делает нас смиренными и в то же время наполняет радостью наши сердца.
Проведя вместе эти часы в размышлении о работе, которая является нашим призванием, мы отправляемся делать эту работу — каждый на своем участке. Разбросанные далеко друг от друга, мы объединены одним духом, духом тех, кто желает подчинить себя воле Бога и верит, что его призвание — пробуждать в людях такое же страстное желание.
Из лекций, прочитанные в 1922 г. в Бирмингеме, в миссионерском колледже "Селли оук". Впервые опубликованы в английском переводе в 1923 г. Настоящийперевод на русский язык выполнен по изданию: Schweitzer A. Das Christertum und die Weltreligionen // Ausgewahlte Werke in funf Banden. Berlin, 1971. B. 2. S. 665—716.