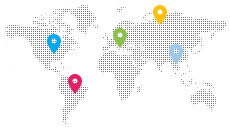ПРОБЛЕМА ЭТИКИ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ А. Швейцер
То, что мы называем заимствованным из греческого языка словом «этика» или из латинского языка «мораль», состоит, вообще говоря, в правильном человеческом поведении. Нас должно занимать не только наше собственное благо, но и благо других, а также всего человеческого общества.
Первым шагом в прогрессивном развитии этики является расширение сферы солидарности с другими людьми.
Для дикаря границы этой сферы достаточно узки. Она включает его кровных родственников, то есть членов его рода, и представляет семью в широком смысле слова. Я говорю на основании опыта. В своем госпитале я сталкивался с такими примитивными отношениями. Если я поручаю одному из выздоравливающих пациентов присматривать за лежачим больным, он соглашается лишь в том случае, когда тот одного с ним рода, его соплеменник. В противном же случае он чистосердечно ответит: «Это не мой брат». И ни наградой, ни угрозами невозможно принудить его оказать услугу этому чужаку.
Но стоит человеку начать задумываться о своем отношении к другим людям, и он поймет, что каждый человек как таковой подобен ему и его ближним.
По мере своего развития он видит, как круг его ответственности расширяется, пока не охватит всех человеческих существ, вступающих с ним в контакт.
Китайские мыслители Лао-цзы (род. 604 г. до Р. X.), Конфуций (551—479 гг. до Р. X.), Мэн-цзы (372—289 гг. до Р. X.), Чжуан-цзы (IV в. до Р. X.), израильские пророки Амос, Осия и Исайя (VII в. до Р. X.) руководствовались этим высокоразвитым этическим воззрением. И мысль о том, что человек в долгу перед каждым человеческим существом, является этическим основанием в поучении Христа и апостола Павла.
Для великих мыслителей Индии, принадлежат ли они к брахманизму, буддизму или индуизму, идея братства всех человеческих существ задана метафизической концепцией человеческого бытия. Трудности возникают, когда они пытаются реализовать эту идею в своей этике. Им не удается устранить границы между людьми, созданные наличием в Индии различных каст.
Подобно им Заратустра, живший в VII веке до Р. X. в Бактрии (Восточный Иран) не мог прийти к понятию братства всех людей, так как должен был различать тех, кто верит в Ормузда, бога света и добра, и тех, кто этой веры не разделяет. Он требовал от верующих в Ормузда считать неверующих своими врагами и соответственно с ними обращаться. Чтобы понять подобный подход, следует учитывать тот факт, что верующие принадлежали к оседлым бактрийским племенам, ведущим жизнь мирных пахарей, в то время как неверующие оставались разбойничьими номадами.
Платон и Аристотель, а с ними и другие греческие философы классической эпохи апеллировали только к свободным грекам, чуждым ежедневных забот о поддержании жизни. Не принадлежащий к аристократии был для них существом низшего порядка и не заслуживал внимания.
Только на втором этапе развития греческой мысли, связанном с деятельностью школ стоиков и эпикурейцев, признается равенство всех людей и возникает интерес к человеку как таковому. Наибольшего внимания как провозвестник этого нового воззрения заслуживает стоик Панеций (II в. до Р. X.). Он выступает пророком гуманизма в греко-римском мире.
Мысль о братстве всех людей не стала в эпоху античности принадлежностью народного сознания, но тот факт, что философия провозгласила гуманизм отвечающим разуму убеждением, имел большое значение для будущего.
Правда, признание того, что человеческое существо как таковое имеет право на наше внимание, не было полным и безусловным. Еще и сегодня препятствием на его пути стоят расовые, религиозные, национальные различия. Этого рода отчужденности между людьми мы еще не преодолели.
Говоря о вершинах развития этики, необходимо иметь в виду то влияние, которое оказывает на нее характер мировоззрения. Ибо существует принципиальное различие суждений об этом мире. Одни мировоззрения характеризуются позитивным отношением к миру, наделяют значением предметы этого мира и существование в нем. Но есть и такие мировоззрения, которые пренебрегают миром, требуют безучастия, бесстрастности ко всему, что его касается. Мироутверждение согласуется с нашим естественным чувством, оно позволяет нам ощутить этот мир своим домом и активно действовать в нем. Миро-отрицание неестественно. Оно понуждает нас жить чужими в мире, которому мы принадлежим, не придавать никакого смысла нашей деятельности в нем.
Этика по сути своей есть мироутверждение. Она стремится быть активной и действенной в отношении добра. Из этого следует, что утверждение мира оказывает благотворное влияние на развитие этики, тогда как этика отрицания мира сталкивается с трудностями своего развития. В первом случае она может быть такой, какова она есть, во втором она становится неестественной.
Отрицанию мира учили мыслители Индии, христиане античности и средневековья. Мироутверждение провозглашали китайские мыслители, пророки Израиля, Заратустра, европейские мыслители Возрождения и нового времени.
Для индийских мыслителей негативное отношение к миру продуцируется убеждением, что подлинное бытие имматериально, неизменно и вечно, в то время как сущность материального мира искусственна, обманчива и преходяща. Мир, который видится нам реальным, для них есть только являющееся во времени и пространстве отражение имматериального бытия. По их мнению, человек заблуждается, принимая всерьез этот обманчивый образ бытия и ту роль, которую он сам в нем играет.
Единственная позиция, согласующаяся с этим воззрением, — это бездеятельность. Она может в определенной степени иметь этический характер. Безучастный к делам этого мира человек свободен от эгоизма, который пробуждает в людях материальные интересы. Более того, бездеятельность находится в связи с идеей ненасилия. Она спасает человека от опасности нанести вред другим насильственной деятельностью.
Индийские мыслители брахманизма, санкхьи и джайнизма прославляют вместе с Буддой ненасилие, которое они именуют «ахимсой», и видят в нем возвышенную этику. Но такая надуманная этика неполноценна, несовершенна. Она разрешает человеку эгоистически заботиться только о своем благе, достигая его путем бездеятельности, согласующейся с подлинным знанием. Его сочувствие оказывается неестественным, исходит из метафизических теорий, требует только воздержания от зла, а не деятельности, посвященной добру и основанной на естественном представлении о нем.
Только мироутверждающая этика может быть естественной и полной. Когда индийские мыслители чувствуют необходимость обратиться к менее ограниченной этике, чем этика ахимсы, они делают шаг в сторону утверждения мира и принципа активности. Будда, выступивший против бесстрастности брахманистского учения с проповедью сочувствия (милости), с трудом противостоит соблазну отойти от принципа недеяния. Неоднократно он уступает сочувствию там, где не может удержаться от деятельной любви к ближнему, призывая к этому и своих учеников.
Столетиями мироутверждающая этика в Индии ведет тайную войну с принципом недеяния. В индуизме как религиозном движении, выступающем против крайних требований брахманизма, активность смогла завоевать себе равное положение с недеянием. Их равноценность провозглашается и устанавливается в большой дидактической поэме «Бхагавадгита», составляющей часть великого индийского эпоса «Махабхарата».
«Бхагавадгита» позволяет оценить мировоззрение брахманизма. Она утверждает, что материальный мир — это лишь кажущаяся реальность и не может отвечать нашим интересам. Он является всего лишь спектаклем, который Бог ставит для Самого Себя. И потому наиболее естественно для человека — считать себя только зрителем этого спектакля. «Бхагавадгита», впрочем, разрешает ему быть актером и участвовать в представлении. Активность дозволяется ему, когда он имеет правильное представление о своей роли.
Если человек активен с единственным намерением содействовать спектаклю, который Бог устраивает для Самого Себя, то он на правильном пути. Он действует в границах того же самого знания, где другой остается чистым зрителем. И оба равно могут считаться знающими. Но если он решается действовать, по наивности считая мир реальным и пытаясь в нем что-то исправить, — он оказывается в плену заблуждения. Его деятельность — безумство. Эта теория «Бхагавадгиты» никоим образом не может отвечать требованиям этики, стремящейся к улучшению ситуации в мире. «Бхагавадгита» с ее мироотрицающим учением может придать деятельной этике лишь видимость бытия.
Христианство античности и средневековья исповедовало отказ от мира, не требуя при этом абсолютного недеяния. Эта позиция обоснована тем, что христианское отрицание мира носит иной характер, чем мироотрицание индийских мыслителей. Оно не допускает мысли о том, что мы живем в призрачном мире. Этот мир, конечно, несовершенен, но ему предопределено стать совершенным с приходом Царства Божия. Идея наступления надмирного Божьего Царства рождена израильскими пророками, однако мы находим ее и в религии Заратустры.
Иисус провозвестил вслед за Иоанном Крестителем, что преображение реального мира в Царство Господне уже близко. Он призывал людей стремиться к совершенству, необходимому для сопричастности новому существованию в новом мире. Он призывал их отрешиться от дел этого мира, чтобы стать свободными, отдать себя идее добра. Этика Иисуса разрешает деятельно осуществлять все, что она понимает как благое и заповеданное. В этом заключается ее отличие от учения Будды, с которым она разделяет идею сочувствия. Но сочувственному деянию Будды поставлены ограничения, а этика Иисуса требует безграничного творения добра.
Первохристиане, среди них и апостол Павел, ожидали, что Царство Божие скоро заместит собой природный мир. Их надежда не осуществилась. В античном мире, так же как и в средние века, христиане должны были жить в природном мире, не надеясь на скорый приход сверхприродного.
Христианство не могло решиться полностью посвятить себя мироутверждению, хотя его деятельная этика могла бы облегчить ему это. Времена античности и средневековья не знали одухотворенного мироутверждения. Таким образом, античное и средневековое христианское мышление осталось полностью направленным к потустороннему.
Только в эпоху Возрождения мощно проявило себя мироутверждающее мышление. К нему пришло христианство нового времени. Его этика наряду с идеалом взыскуемого Иисусом самосовершенствования знала также и другой идеал, который предписывал создавать новые и лучшие материальные и духовные условия для человеческого бытия в мире. Отныне христианская этика, научившаяся полагать цель своей активности, вступила в пору своего расцвета. Связь христианства и целеустремленного мироутверждения произвела культуру, в которой мы живем. Нашей задачей является сохранить ее и усовершенствовать.
Этические взгляды китайских мыслителей, а также и Заратустры с самого начала служили утверждению мира. Они при этом несли в себе силы, необходимые для формирования этического мировоззрения.
На определенной ступени развития этика устремляется к большим глубинам. Эта склонность обнаруживает себя в ее потребности исследования фундаментальной сущности добра. Она более не находит удовлетворения в определении, перечислении и предписывании различных добродетелей и обязанностей, а хочет постигнуть то общее, что они имеют между собой, и то, к чему они вместе стремятся. В этом поиске великие китайские мыслители пришли к тому, что стали прославлять доброжелательность к людям как фундаментальную добродетель.
В этике Израиля еще до Иисуса поднимается вопрос о высшей заповеди, соблюдение которой соответствует исполнению Закона. Иисус в согласии с традицией еврейских книжников возвышает любовь до высшей заповеди, которая включает в себя и все остальные.
Также и мыслители эпикурейской и стоической школ первых двух столетий по Р. X., идя по пути, проторенному Панецием, создателем гуманистического идеала, пришли к признанию человеколюбия высшей добродетелью. Этика Сенеки (4 г. до Р. X. — 65 г. по Р. X.), Эпиктета (50—138), Марка Аврелия (128— 180) в основном была близка взглядам китайских и христианских мыслителей. Их заслугой было убеждение, что мышление, коль скоро оно идет в глубину, достигает идеала гуманности.
Поскольку в I и II веках по Р. X. греко-римская философия выдвинула тот же этический идеал, что и христианство, осознание ими их общности казалось вполне возможным. Но этого не произошло. Они остались чуждыми друг другу. Необходимые для их взаимного признания условия еще не сложились. Расцвет высокоразвитой греко-римской философии был недолог. Она была уделом лишь малочисленного слоя образованных. Народ ее не знал.
Кроме того, оба движения имели далеко идущее предубеждение друг против друга. Для греко-римского сознания христианство, с его ожиданием сверхприродного мира, Владыкой которого должен стать распятый в Иерусалиме иудей, было суеверием безумцев. Для христиан же языческое греко-римское мышление было неприемлемо, и потому о нем вообще не стоило что-либо знать. Но спустя столетия они вступили во взаимодействие друг с другом. Когда в XVI и XVII веках христианство познакомилось с мироутверждающей идеей, оставленной Ренессансом в наследство европейскому мышлению, оно восприняло также знание той углубленной этики, к которой пришли поздний стоицизм и эпикуреизм I—II веков. Оно должно было ошеломленно констатировать, что заповедь любви Иисуса уже тогда выступала в качестве провозглашенной разумом истины. После этого в христианском мышлении, сделавшем это открытие, воцарилось убеждение, что основные этические идеи, данные религии путем откровения, являются подтвержденными разумом истинами.
Исходя как из христианства, так и из позднего стоицизма, Эразм Роттердамский (1469—1536) и Гуго Гроций (1583—1645) предприняли попытку создать этически обоснованное право, пригодное для всех народов на время мира и войны.
Как христианскую, так и философскую этику охватила лихорадочная жажда деятельности. Общими усилиями они подошли в XVIII веке к разработке проблем мира. Это привело их к отказу от дальнейшей терпимости в отношении вопиющей несправедливости, жестокости и губительного суеверия. Были отменены пытки, был положен конец процессам над ведьмами. Бесчеловечные законы должны были уступить место более гуманным. Открытие того, что заповедь любви подтверждается также разумом, помогло предпринять и провести уникальную в истории человечества реформу.
Стремясь полнее обосновать соответствие любви к ближнему требованиям разума, Иеремия Бентам (1748—1832) и другие мыслители считали правильным оперировать аргументом ее полезности.
Согласно отстаиваемому ими тезису, здесь речь идет исключительно о правильно понимаемом эгоизме. Они подчеркнули ценность того, что благо как индивида, так и общества может быть гарантировано только готовностью к самоотдаче, которую людям следует практиковать в общении с себе подобными.
Это несколько поверхностное мнение о сущности этического отклоняют в числе прочих Иммануил Кант (1724—1804) и шотландский философ Давид Юм (1711—1776). Кант, который стремился сохранить достоинство этики, выдвигает утверждение, что ее полезность не должна приниматься во внимание. Его учение о категорическом императиве признает за этикой право формулировать абсолютные требования. Наша совесть, считает он, извещает нас о том, что хорошо и что дурно. Мы должны слушаться одну ее. Присущий нам внутренний моральный закон дает нам уверенность в том, что мы причастны не только к тому миру, который существует в пространстве и времени, но и являемся гражданами духовного мира.
Юм в свою очередь призывает опыт для отрицания утилитарного характера этики. Он анализирует движущие силы этики и приходит к выводу, что она является делом симпатии и сочувствия. Природа, аргументирует он, наделила нас способностью сопереживания судьбе других. Тем самым она обязала нас переживать радость, заботы и страдания других, как наши собственные. Юм образно уподобляет нас струнам, которые звучат в унисон с другими. Природной доброжелательностью мы предопределены сопереживать другому и желать блага как ему, так и обществу.
Философия, начиная с Юма, не отваживалась больше — если говорить о Ницше (1844—1900) — серьезно сомневаться в том, что этика в первую очередь сводится к сочувствию и соответствующей ему благотворительной деятельности.
Но в какую ситуацию попадает тогда эта глубокая, естественная этика! Она не в состоянии даже четко установить и определить границы неизбежного для нас самоотречения во имя других, чтобы таким образом выявить правильное соотношение заботы о своем состоянии с заботой о состоянии других.
Дальше подобной постановки проблемы реализации своей этики Юм не идет. Но и современная ему, а также более поздняя философия не чувствует призвания серьезно заниматься ею. Предвидение трудностей, встающих на пути решения этой задачи, удерживает от попыток подступиться к нему.
Действительно, трудности этой элементарной и живой этики таковы, что кажутся непреодолимыми. Ее невозможно изложить в четко сформулированных предписаниях и запретах. Она насквозь субъективна. Она предоставляет индивиду самому решать, как далеко он желает зайти в своей самоотверженной помощи. Она не позволяет нам отказываться от самоотречения, которое мы вправе признать чрезмерным, даже в том случае, если оно может принести нам большой вред. Она не дает успокоиться нашей совести. Чистая совесть оказывается для нас мифом.
Во всех жизненных конфликтах этика самопожертвования ставит тех, кто стремится ей следовать, перед подобными тяжкими решениями. Руководители производств редко могут позволить себе удовольствие обещать из сочувствия место тому, кто в нем больше нуждается, а не доверять его наиболее квалифицированному. Но горе тому, кого подобные примеры убедят в необходимости придавать слишком большое значение сочувствию!
Размышляя над проблемой самоотречения, мы приходим к выводу, что нам следует расширить ранее очерченный круг нашей этической деятельности. Нам открывается, что этика имеет дело не только с людьми, но и с другими созданиями, которые также стремятся к благосостоянию, испытывают страдания и ужас перед уничтожением. И каждый человек, сохранивший полноту чувств, находит естественной потребность участия в судьбе всех живых существ. Мышлению остается только признать, что доброе отношение ко всем живым творениям является естественным требованием этики. То, что она медлит это делать, имеет свои основания. И действительно, внимание к судьбам всех живых существ, с которыми мы имеем дело, ввергает нас в еще более многообразные и запутанные конфликты, чем те, что несет с собой ограниченное одними людьми самоотречение. Новым и трагическим нюансом выступает здесь то, что мы все чаще оказываемся в ситуации выбора между умерщвлением и сохранением жизни. Крестьянин не может выращивать всю живность, которая рождается в его стаде. Он сохранит лишь тех, кого сможет прокормить и чье выращивание обеспечит ему прибыль. Часто и мы также принуждены жертвовать одними живыми существами, чтобы спасти других, которым они угрожают.
Всякий нашедший выпавшего из гнезда птенца встает перед необходимостью — чтобы его прокормить — уничтожать другие крохотные жизни. Это действие совершенно произвольно. Но кто дает ему право жертвовать множеством жизней ради одной-единственной? Так же произвольно он поступает, уничтожая неприятное ему животное, чтобы защитить от него другое.
Итак, каждый из нас, приговаривая живое существо к страданию или смерти на основании неизбежной необходимости, сам становится виновным. Некоторое искупление за эту вину получает тот, кто возлагает на себя обязательство использовать любую возможность, чтобы помочь попавшему в беду живому созданию. Как далеко вперед ушли бы мы сейчас, если бы больше заботились о благе всех живых существ и перестали бездумно приносить им зло. На нас возложена борьба против антигуманных традиций и бесчеловечных чувств, еще существующих в наше время.
Примерами такой привычной бесчеловечности, которую не должны более терпеть наша цивилизация и наши чувства, могут служить бой быков и охотничьи травли и облавы.
Этика, которую не занимает наше отношение ко всему живому, несовершенна. Мы должны вести постоянную последовательную борьбу против бесчеловечности. Мы должны понять и почувствовать, что убийство ради игры — позор нашей культуры.
Существенно изменило ситуацию в этике признание того, что этика сегодня не может больше полагаться на соответствующее ей мировоззрение. Прежде она могла быть убеждена в том, что требует поведения, согласующегося с познанием истинной природы открытой нам в творении универсальной воли к жизни. Такого взгляда придерживались не только высокоразвитые религии, но и рационалистическая философия XVII—XVIII веков.
Но в действительности мировоззрение, на котором основывалась этика, было результатом предпринятой ею самой оптимистической интерпретации мира. Она приписывает универсальной воле к жизни такие свойства и намерения, которые отвечают ее собственному жизнеощущению и способу суждения.
В XIX и XX веках мышление, руководствующееся исключительно поисками истины, вынуждено было признать, что этике нечего ожидать от истинного познания мира. Прогресс науки состоит во все более точном познании законов происходящего. Она дает нам возможность поставить себе на службу энергию Вселенной. Но она принуждает нас одновременно все больше отказываться от надежды познать смысл происходящего.
Как глубоко может корениться в мировоззрении самоотречение ради блага других? Вновь и вновь пытается понять это этика. Никогда ей не удается достичь цели на этом пути. И пребывать в уверенности, что доказала это, она может лишь потому, что сконструировала себе необходимое для этого наивно-оптимистическое мировоззрение. Но мышление, стремящееся к истине, должно признать, что духа добра нет в числе действующих лиц мировой истории. Мир предлагает нам неутешительное зрелище движений воли к жизни, постоянно противостоящих друг другу. Одно существование сохраняется, побеждая и уничтожая другие. Мир являет собой ужасное в прекрасном, бессмысленное в осмысленном, полноту страдания в полноте радости.
Этика пребывает не в гармонии, а в борьбе с тем, что совершается в мире. Она выступает движением духа, жаждущего быть иным, чем тот, что заявляет о себе миру.
Пытаясь понять происходящее в мире, как оно есть, и определить свое отношение к тому, что происходит, мы оказываемся во власти скепсиса и пессимизма. Этика становится делом нашего духовного самостояния.
Этика изначально побуждалась к созданию соответствующего ей мировоззрения. Она пришла поэтому к признанию того, что в глубинах всех предстающих нам мировых свершений действует дух, который в потоке несовершенного воплотит в конце концов совершенное, и что все наши этические усилия в этом мире обретают свой смысл в надежде на такую конечную цель.
И когда этика осознает, что она является тем понуждением к самоотречению ради других воль к жизни, от которого не может освободить себя более совершенный, чем они, в мышлении человек, тогда она достигает полной самостоятельности. Отныне тот факт, что мы обладаем несовершенным и абсолютно неудовлетворительным знанием мира, не служит нам более помехой. Мы владеем знанием отвечающего нашей сущности поведения в мире. И сохраняя верность ей, мы следуем путем нашего бытия.
Элементарный, постоянно присутствующий в сознании факт нашего бытия можно выразить так: я — жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая также хочет жить. Непостижимым в моей воле к жизни является то, что я чувствую себя вынужденным участливо относиться ко всякой воле к жизни, которая присутствует в бытии рядом с моей. Сущность добра — сохранение жизни, содействие жизни, ее становлению как высшей ценности. Сущность зла — уничтожение жизни, нанесение ей ущерба, торможение жизни в ее развитии.
Основополагающим принципом этики является, таким образом, благоговение перед жизнью. Все то добро, что я делаю какому-нибудь живому существу, — это в конечном счете помощь, которую я могу оказать ему для поддержания и развития его бытия.
По своей сути благоговение перед жизнью побуждает к тому же, что и этический принцип любви. Но благоговение перед жизнью несет в себе обоснование заповеди любви и требует сочувствия ко всем творениям.
Необходимо также заметить, что этика любви дает нам образец нашего отношения к другим, а не к самим себе. Стремление к истине как первооснове этической личности из нее невыводимо. В действительности же именно благоговение, которое мы испытываем по отношению к нашему собственному бытию, принуждает нас сохранять верность самим себе, отказываясь от любого лицемерного поступка, выгодного нам в той или иной ситуации; именно оно дает нам силы в постоянной борьбе за верность истине.
Только этика благоговения перед жизнью совершенна во всех отношениях. Этика же, которая распространяет этот принцип лишь на своих ближних, может быть очень живой и глубокой, но она остается несовершенной. Мышление должно было когда-то возмутиться дозволенным бессердечием в обращении с отличными от нас живыми существами и потребовать от этики снисхождения к ним. Она не сразу решилась принять это требование всерьез. Лишь со временем этот принцип обратил на себя внимание и нашел признание в мире.
Сейчас этика благоговения перед жизнью, требующая сочувствия ко всем живым существам, получает признание как естественное мироощущение мыслящего человека.
Через этическое отношение ко всем творениям мы вступаем в духовную связь с Универсумом.
В мире воля к жизни находится в конфликте сама с собой. В нас она ищет мира сама с собой.
Миру она заявляет о себе, нам она открывается.
Дух приказывает нам быть иными, чем мир. Благоговение перед жизнью делает нас изначально, глубоко и животворно благочестивыми.