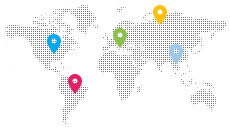СТРАХ И ТРЕПЕТ С.Кьекегор
НАСТРОЕНИЕ
Жил-был человек, который в детстве слышал прекрасную повесть о том, как Господь испытывал Авраама и как Авраам выдержал испытание, сохранив веру, и вторично обрел сына, сверх чаяния. Став постарше, человек этот сам прочел ту же повесть с еще большим восхищением. И чем старше становился он, тем чаще его мысли обращались к этой повести, тем больше он восторгался ею и в то же время все меньше и меньше понимал ее. В конце концов он позабыл из-за этой повести обо всем остальном на свете: в душе его осталось одно желание – узреть Авраама, одно стремление – присутствовать при этом событии. Но не живописность Востока, не земное великолепие Земли Обетованной, не сама благочестивая чета старости, которую благословил Господь, не почтенный образ престарелого отца, не пышная юность дарованного ему сына привлекали этого человека. Пусть бы даже событие происходило в бесплодной степи: для него главное было сопровождать Авраама в трехдневной поездке, которую Авраам совершил с такой душевной скорбью, имея возле себя Исаака. Человека этого томило желание быть свидетелем той минуты, когда Авраам поднял взор и узрел гору Мориа, отослал спутников своих и один с Исааком пошел на гору: не прихотливая фантазия занимала этого человека, но трепет мысли.
Человек этот не был философом: он не чувствовал потребности покончить с верой. Ему казалось, что нет выше жребия, чем жить в памяти людей отцом веры, нет завиднее доли, как обладать сокровищем веры, пусть даже никто другой и не ведал этого.
Человек тот не был ученым экзегетом, не знал древнееврейского языка. Знай он этот язык, ему, пожалуй, ничего не стоило бы понять и повесть, и самого Авраама.
И Господь, искушая Авраама, сказал ему: "Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака. и пойди в землю Мориа и там принеси его в жертву во всесожжение на одной из гор, о которой скажу тебе".
Было раннее утро, Авраам встал с зарею, велел оседлать ослов и покинул шатер свой, а с ним и Исаак. Сарра же смотрела им вслед, пока они, пройдя долину, не скрылись из виду. Молча ехали они три дня. И на утро четвертого дня Авраам не проронил ни слова, но поднял взор свой и увидел вдали гору Мориа; тогда он отослал отроков и пошел один рука об руку с Исааком на гору. И сказал себе Авраам: "Не скрою же я от Исаака, куда веду его на этот раз". И вот он остановился, положил руку на голову Исааку, чтобы благословить его, а Исаак преклонился перед ним, чтобы принять благословение. И лик Авраама был исполнен отеческой любви, взор – кротости, а речь – назидания.
Но Исаак не в силах был понять его, не мог испытать духовного подъема. Он обнимал колени Авраама и молил, лежа у ног его, пощадить его молодую жизнь и прекрасные надежды, напоминая о былой радости в доме Авраама, о предстоящей скорби и одиночестве. Тогда Авраам поднял отрока и повел его за руку, утешая и ободряя его. Они взошли на гору Мориа. Но Исаак не понял его. Тогда Авраам на минуту отвратил лицо свое от сына, и, когда Исаак снова узрел лицо отца, оно было уже другое: взор его блуждал, он весь был воплощением ужаса. Он схватил сына, поверг его на землю и оказал: "Неразумный отрок, ты думаешь, что я отец твой? Я идолопоклонник. Ты думаешь, это Божие веление? Нет, это я так хочу". Тогда Исаак затрепетал и возопил в страхе своем: "Господи, сжалься надо мной! Бог Авраама, сжалься надо мною! Если у меня нет отца на земле, то будь Ты моим отцом" . Авраам же сказал про себя: "Господи, благодарю Тебя. Пусть лучше он думает, что я чудовище, нежели утратит веру в Тебя!"
Когда предстоит отлучить дитя от груди, мать чернит себе соски: ведь грешно, чтобы грудь оставалась привлекательной, раз дитя не должно получить ее. И дитя думает, что грудь изменилась; а мать все та же, взгляд ее все так же полон любви и нежности, как и прежде. Счастлив тот, кому не приходилось прибегать к более жестоким мерам, чтобы отлучить дитя от груди!
II
Было раннее утро: Авраам встал с зарею, обнял Сарру, невесту своей старости, а Сарра облобызала Исаака, снявшего с нее позор, облобызала свою гордость, свою надежду в будущем поколении. И они молча ехали по дороге, и взор Авраама был прикован к земле вплоть до четвертого дня: тогда же поднял он взор свой и узрел вдали гору Мориа, а затем снова потупил свой взор. Молча сложил он костер, связал Исаака, молча занес нож. Но тут увидел он овна, отмеченного Господом, принес его в жертву и отправился домой. С того дня Авраам одряхлел. Он не мог забыть, что Господь потребовал от него. Исаак рос и мужал по-прежнему, но взор Авраама заволокло, он не видел больше радости на земле.
***
Когда дитя подросло и пора отлучить его от груди, мать стыдливо, по-девичьи, прячет грудь свою, так что у дитяти как будто нет больше матери. Благо тому дитяти, которое лишится матери лишь таким образом.
III
Было раннее утро: Авраам встал с зарею, обнял Сарру, молодую мать, а Сарра облобызала Исаака, свою радость на вечные времена. И Авраам задумчиво двинулся в путь, размышляя об Агари с сыном, выгнанных им в пустыню.
Затем наступил тихий вечер, когда Авраам выехал один и направился к горе Мориа. Там он пал на лицо свое и молил Бога отпустить ему грех его, простить ему, что он захотел принести Исаака в жертву, что он, отец, забыл долг свой по отношению к сыну. И часто потом совершал он этот одинокий путь свой, но не находил покоя. Он не мог понять, что не грешно захотеть принести Богу в жертву самое лучшее свое достояние, то, ради чего он сам не раз готов был пожертвовать жизнью. А если это был грех, если он не любил так Исаака, то он не мог постичь, что такой грех мог быть отпущен, ибо какой грех был бы ужаснее этого?
Когда ребенка приходится отлучать от груди,, мать сама тоскует, что их взаимная тесная связь порывается, что дитя, которое лежало у нее под сердцем, потом покоилось у нее на груди, впредь уже не будет так близко к ней. И оба печалятся вместе недолгое время. Благо тому, кто сохранил близость к детям и не имел нужды печалиться больше!
IV
Было раннее утро, и все было готово в шатре Авраама к отъезду. Он простился с Саррой, и Элиезер, верный слуга его, проводил его часть пути, после чего вернулся обратно. Дружно ехали они вместе, Авраам с Исааком, пока не достигли горы Мориа. Тут Авраам все приготовил для жертвоприношения со спокойным и кротким видом, но когда он отвернулся и взялся за нож, Исаак увидел, что левая рука отца судорожно сжалась в отчаянии, и по телу его пробежала дрожь... И все-таки Авраам занес нож . . .
Они снова вернулись домой, Сарра выбежала им навстречу, но Исаак утратил веру. Ни слова не было сказано об этом, и сам Исаак никогда ни одним словом не обмолвился ни одному человеку о том, что он видел, и Авраам не подозревал, что кто-нибудь видел это.
* * *
Когда наступает пора отнять дитя от груди, мать имеет под рукою питательную пищу, чтоб дитя не погибло. Благо тому, у кого под рукою более питательная пища!
* * *
Так на всякие лады представлял себе это событие человек, о котором мы говорим. И каждый раз, как после такого воображаемого путешествия на гору Мориа, он возвращался к себе, он изнемогал от усталости складывал руки и говорил: "Не было на свете человека подобного по величию Аврааму, и кто же в состоянии постичь.
СЛАВОСЛОВИЕ АВРААМУ
Если бы душа человека не освещалась вечным светом сознания, если бы в основе всего скрывалось дикое брожение сил, которые бы, извиваясь в судорогах темных страстей, производили все – и великое, и ничтожное, если бы подо всем таилась бездонная, ничем не насыщенная пустота; чем была бы тогда жизнь человеческая, как не сплошным отчаянием? Если бы дело было так, если бы человечество не связывалось воедино никакими священными узами, если бы поколения сменялись одно за другим в мире, как одна листва сменяет другую в лесу, если бы один род чередовался другим, как чередуется пение птиц в лесу, если бы поколения проходили по свету, как корабли по морю, не оставляя следов, как ветер проносится в пустыне, бессмысленным и бесплодным делом, если бы вечное забвение, всегда голодное, стерегло свою добычу, и не было бы в мире силы, способной вырвать ее у забвения, – как была бы тогда пуста и безутешна жизнь! Но поэтому и не бывает так на самом деле, и Господь, сотворивший мужчину и женщину, сотворил также героя и поэта. Последний не может совершать ничего такого, что совершает первый, он может лишь восторгаться героем, радоваться за него, любить его. Однако и он счастлив не меньше героя: герой – как бы его лучшее "я", в которое он влюблен, радуясь, что это все-таки не он сам и что любовь, таким образом, может вылиться в форме восхищения. Вот почему ни один великий человек не предается забвению, а если случается это, если облако недоразумения и заволакивает образ героя надолго, то все-таки его любимец и поклонник рано или поздно явится и привяжется к герою тем сильнее, чем дольше длилось забвение.
Да! Ни один великий человек не будет забыт, но каждый бывает велик по-своему, и каждый – соответственно величию того, что он любил. Тот, кто любил себя самого, стал великим сам по себе; кто любил других людей, стал велик своей преданностью, но тот, кто любил Бога, будет превознесен выше всех. Каждый будет жить в памяти, но каждый будет превознесен соответственно своему чаянию. Один становится великим, ожидая возможного, другой – чая вечного. Но кто чает невозможного, становится выше всех. Каждый будет жить в памяти, но величие каждого соответствует величию того, с чем или с кем боролся. Кто борется с миром, становится велик победою – своею над миром; кто борется с самим собою, становится еще более велик победою над самим собой; тот же, кто борется с Богом, становится превыше всех. И всегда так было в мире: человек боролся с человеком, один с тысячами, но тот, кто боролся с Богом, становился выше всех. И так велась борьба на земле: были и побеждавшие все своею силой, были и такие, которые побеждали Бога своим бессилием. Были и опиравшиеся на самих себя и тем обретавшие все, были и такие, которые уповали на свою силу, жертвовали всем, но тот, кто верил в Бога, стал выше, превыше всех. Были люди и великие своею надеждой, и великие своею любовью, но выше всех был Авраам, – он был велик тою силой, суть которой бессилие, велик тою мудростью, тайна которой несообразность, велик тою надеждой, форма которой безумие, велик тою любовью, которая есть ненависть к самому себе.
С верою вышел Авраам из земли отцов своих и стал пришельцем в Земле Обетованной. Одно оставил он позади себя и одно взял с собою: позади себя он оставил свой земной разум, а взял с собой веру – иначе он, верно, и не двинулся бы в путь, счел бы это неразумным. С верою стал он пришельцем в Земле Обетованной, где ничто не напоминало ему о дорогом и родном сердцу, но все искушало его душу своей новизною, все наводило его на грусть и тоску. А между тем он был избранником Божиим, он был угоден Господу! Еще будь он отщепенцем, лишенным милости Божией, он бы скорее мог понять, свое положение, теперь же оно могло показаться глумлением над его верой. Жили в мире и другие отторгнутые от страны своих предков, которая была им дорога. И они не забыты, как не забыты их жалобные песни, пропетые ими в скорбном стремлении к утраченному. Авраам не оставил жалобных песен. И жаловаться, и плакать с плачущими свойственно человеку, но куда выше верить и куда блаженнее созерцать верующего.
С верою принял Авраам обетование, что в его чресле будут благословенны все народы земные. Время шло, возможность оставалась, но Авраам верил, время шло, возможность становилась несуразной – Авраам верил. Были в мире люди, которые тоже уповали. Время шло, жизнь клонилась к закату, но они не были настолько жалкими людьми, чтобы забыть свои упования, а потому и они не будут забыты. Они лишь скорбели, и скорбь их не обманывала, как обманула жизнь: скорбь делала для них все, что могла, и в сладости они обладали обманувшим их чаянием. Скорбеть самому и скорбеть с теми, кто скорбит, – все это по-человечески, но верить – выше, созерцать верующего – блаженство. Авраам не оставил нам песен скорби. Он не считал уныло дней, не вглядывался подозрительно в лицо Сарры – не состарилась ли она, не пытался остановить бег солнца, чтобы Сарра не старилась, а с нею не состарилось его великое чаяние, не убаюкивал Сарру грустной песней. Авраам состарился, Сарра стала предметом поношений, а между тем он был избранником Божием, наследником обетования, что в его чресле будут благословенны все народы земные. Так не лучше было бы ему не быть избранником Божиим? Что же означает – быть избранником? Быть лишенным в дни юности исполнения желания своей юности, с большим трудом добиться исполнения этого желания в старости? Но Авраам верил и твердо хранил завет с Богом. Если бы Авраам поколебался, он бы отказался от этого завета. Он сказал бы Господу: "Быть может, на это нет Твоей воли, так я откажусь от своего желания, хотя бы оно и было моим единственным, заветным, в котором заключалось мое блаженство. Душа моя открыта, я не таю никакого зла на Тебя за то, что Ты отказал мне" . Заговори Авраам таким языком, он все-таки не был бы забыт, и своим примером спас бы многих, но не стал бы отцом веры. Великое дело отказаться от своего желания, но оставаться при нем, отказавшись от его исполнения, – дело еще более великое. Великое дело стремиться к вечному, но еще более великое дело держаться временного, отказавшись от него.
Но вот приспело время. Не сохрани Авраам своей веры, Сарра, верно умерла бы с горя, и Авраам, сам отупев от отчаяния, не понял бы, что приспело время, но смеялся бы над возможностью этого, как над мечтой юности. Но Авраам верил, поэтому он оставался молодым. Ибо и тот, кто всегда надеется на лучшее, стареет, обманываемый жизнью, и тот, кто всегда готов к худшему, стареет рано, но тот, кто верит, сохраняет вечную юность. Хвала же этой повести, ибо Сарра, хотя и престарелая, была достаточно молода, чтобы жаждать материнского счастья, и Авраам, хотя и поседевший, был достаточно молод, чтобы желать сделаться отцом. Во внешнем смысле чудо заключалось в том, что чаяние их сбылось, а в более глубоком смысле чудо веры заключалось в том, что Авраам и Сарра были достаточно молоды, чтобы желать этого, и в том, что вера сохранила в них силу желания, а тем самым их молодость. Авраам принял исполнение обетования, принял его, веруя, и все сбылось согласно обетованию и вере Авраама.
И была радость в доме Авраама, когда Сарра стала новобрачной в день золотой свадьбы своей.
Но на том их истории не суждено было кончиться. Аврааму предстояло еще одно испытание. Он боролся с лукавой, всеизмышляющей силой, с недремлющим, вечно бодрствующим врагом, с переживающим всех старцем, – боролся с временем и сохранил веру. Наконец, весь ужас борьбы сосредоточился на одном мгновении. И Бог, искушая, Авраама, сказал ему: "Возьми сына своего единственного, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа и там принеси его в жертву во всесожжение на одной из гор, о которой скажу тебе ".
Итак, все должно было пойти прахом? Это было еще ужаснее, чем если бы ничего и не сбывалось. Или Господь только глумился над Авраамом? Он сделал чудо, осуществив несбыточное, а теперь захотел снова уничтожить это чудо.
Все должно было пойти прахом? Долгие годы непоколебимого чаяния и краткая радость по поводу сбывшегося по вере его. Неужели же нет сострадания к достойному старцу, к невинному ребенку? А между тем ведь Авраам был избранником Божиим, испытание наложил на него сам Господь.
Все должно было пойти прахом! Славная память из рода в род, обетование колену Авраама – все это была лишь причуда, мимолетная фантазия, которую возымел Господь и которую Аврааму предстояло теперь уничтожить. Никогда не суждено было наступить тому скорбно-блаженному часу, когда Авраам, прощаясь со всем, что ему было мило на земле, еще раз поднял бы свою почтенную главу и с божественно сияющим ликом вложил бы всю душу свою в благословение сыну своему Исааку, в благословение, которое в силах было бы передать Исааку вечную благодать. Правда, Аврааму предстояло проститься с Исааком, но проститься с тем, чтобы самому остаться на земле; смерти предстояло разлучить их, но добычей ее становился Исаак. Не радостно в час собственной смерти возложить на голову сыну благословляющую руку предстояло старику, но устало, изнемогая под бременем жизни, наложить руку на Исаака. И это Бог испытывает его так! Горе вестнику, принесшему Аврааму такую весть. И кто посмел бы принять на себя такую весть скорби? Но это Авраама испытывал сам Бог.
И Авраам все-таки верил, и вера его относилась к этой жизни. Относись его вера лишь к будущей жизни, ему бы, конечно, легче было отрешиться от всего, чтобы поспешить уйти из мира, которому он не принадлежал более. Но вера Авраама была не такова. Вера его относилась именно к этой жизни, он верил, что состарится в этой земле, будет чтим народом, благословен в своем потомстве, незабываем в Исааке, который был ему дороже всего в жизни, которого он любил любовью, сильнее обычной отцовской любви что и слышится в призыве Господа: "Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь". У Иакова было двенадцать сыновей, а любил он одного; у Авраама был лишь один, которого он любил.
Но Авраам верил и не сомневался, верил против всякого разума. Усомнись Авраам, он поступил бы как-нибудь иначе, совершил бы что-нибудь другое, великое, славное. Да мог ли Авраам совершить что-нибудь не великое и не славное?
Он отправился бы на гору Мориа один, наломал сучьев, поджег костер, обнажил нож и воззвал бы к Господу: "Не отвергни моей жертвы, хотя это и не лучшее, что я имею. Что такое старик в сравнении с обетованным детищем обетования? Но это лучшее, что я могу дать Тебе. Пусть Исаак никогда не узнает об этом, чтобы не лишиться радости своей юности". И он вонзил бы нож себе в грудь. Весь мир дивился бы ему, и имя его не было бы забыто. Но одно – вызывать удивление, другое – быть путеводною звездою, спасающей робкие души.
Авраам верил. Он не взмолился о себе, не старался умилостивить Господа. Лишь когда справедливый гнев Господень готов был поразить Содом и Гоморру, Авраам обратился в Господу с мольбой.
Мы читаем в Священном Писании, что Бог, искушая Авраама, говорил ему: "Авраам, Авраам, где ты?" И Авраам неизменно отзывался: "Вот я". Дальше мы читаем: "Авраам встал рано утром". Да, он спешил, словно на праздник, и рано утром был на условленном месте, на горе Мориа. Он ни слова не сказал ни Сарре, ни Исааку, ни Элиезеру, да и кто бы понял его, раз испытание, по самому существу своему, налагало на него обет молчания? И он разложил дрова, связал Исаака, поджег костер и занес нож.
Слушатель мой! Для многих отцов лишиться своего ребенка значило лишиться самого дорогого на свете, проститься со всякой надеждой на будущее, но ведь ни один ребенок не являлся для своего отца таким обетованным детищем, как Исаак для Авраама. Многие отцы лишались детей, но ведь на то была воля Господа!
Неизменная, неисповедимая воля Всемогущего, и Господь сам отзывал дитя. Не то с Авраамом. Ему пришлось выдержать более тяжкое испытание: судьба Исаака была вложена вместе с ножом в руки отца. И вот он, старик, стоял перед своей единственной надеждой! Но он не усомнился, не озирался боязливо по сторонам, не докучал небу своими мольбами. Он знал, что его испытывает Сам Господь Всемогущий, он знал, что от него требуется тягчайшая жертва, но знал также, что никакая жертва не должна казаться слишком жестокой, раз Господь требует ее: и он занес нож.
Кто укрепил руку Авраама и кто удержал ее занесенную, не дав бессильно опуститься? При таком зрелище всякий бы обессилел. Кто же так укрепил душу Авраама, что у него не помутилось в глазах, отчего он не различил бы ни Исаака, ни овна? Кто не ослеп бы от такого зрелища?
Если бы Авраам, стоя на горе Мориа, усомнился, если бы растерянно стал озираться вокруг, если бы еще раньше, чем обнажить нож, случайно увидел овна, если бы Господь дозволил ему заменить им Исаака, Авраам отправился бы домой, все было бы так же, он сохранил бы Сарру и Исаака, и все-таки какая была бы разница! Его возвращение было бы бегством, его спасение случайностью, и наградой ему был бы позор, а в будущем его, быть может, ждала гибель. Он не засвидетельствовал бы тогда ни своей веры, ни благости Божией, он засвидетельствовал бы только, как ужасно восхождение на гору Мориа. И тогда Авраам не был бы забыт: не забылась бы и гора Мориа, но память о ней не умиляла бы, как память об Арарате, где пристал ковчег, а ужасала, ибо она явилась бы свидетельницей того, что Авраам поколебался в вере своей.
Достойный праотец Авраам! Возвращаясь с горы Мориа, ты не нуждался ни в каком славословии, могущем утешить тебя в твоей потере: ты ведь обрел все и сохранил Исаака – не так ли? Господь не захотел больше испытывать тебя, и ты радостно воссел с ним за стол в своем шатре, как с тех пор делаешь вечно. Достойный праотец Авраам! Тысячелетия прошли с тех пор, но тебе не нужен никакой запоздалый поклонник, чтобы вырвать память о тебе из-под власти забвения. Каждый язык в мире вспоминает тебя – и все же ты награждаешь своего поклонника щедрее, чем кто-либо, ты даруешь ему блаженство в лоне своем, приковывая его взор и его сердце к чудесному твоему деянию. Достойный праотец Авраам! Второй отец рода человеческого! Ты первый узнал и засвидетельствовал ту огромную силу души, которая пренебрегает ужасную борьбою с яростью стихий и силами творения, чтобы померяться с Богом, ты первый узнал ту возвышенную страсть, то святое, чистое, смиренное выражение божественного безумия, которым восхищались язычники. Прости же вздумавшему славословить тебя, если он не сумел сделать этого, как подобает. Речь его была смиренна, согласно его заветному желанию; она была коротка, но он никогда не забудет, что тебе понадобилось сто лет, чтобы против ожидания стать отцом сына, надежды своей старости, что тебе пришлось обнажить нож, прежде чем тебе было дано сохранить Исаака, и что ты и к ста тридцати годам не ушел дальше веры.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Повесть об Аврааме имеет ту удивительную особенность, что вечно остается чудесной, как бы узко ее не понимали, но и тут необходимо дать себе труд вникнуть в нее.
Авраама прославляют, но как? Событию придается вполне обыкновенное толкование: "Авраам велик тем, что любил Бога, что готов был пожертвовать для него наилучшим своим достоянием". Это вполне верно, но "наилучшее" – довольно неопределенное понятие. Наскоро отождествляют Исаака с наилучшим, и это не мешает рассуждающему преспокойно продолжать курить свою трубку, а собеседнику – поудобнее вытянуться в кресле. Если бы евангельский богатый юноша после встречи с Христом продал бы все свое имущество и раздал деньги бедным, мы стали бы прославлять и его, как всякого, совершившего великий поступок, но он не стал бы похож на Авраама, хотя тоже пожертвовал бы своим наилучшим достоянием. Из истории Авраама упускают страх. По отношению к деньгам у нас нет никакого этического обязательства, но отец по отношению к сыну как раз связан наивысшим и святейшим долгом. Страх, однако, опасная вещь для изнеженных сердец, а потому о нем забывают – и все-таки хотят рассуждать об Аврааме. И вот в речах попеременно фигурируют два выражения: Исаак и "наилучшее" – все идет гладко. Но попробуй, однако, кто-нибудь воспоследовать Авраамову примеру, его бы, пожалуй, казнили или упрятали в сумасшедший дом, словом, ему пришлось бы плохо – в так называемом практическом смысле. Допустить ли, что за Авраамом просто установилась репутация великого человека, вследствие чего все, что он ни сделал, считается великим, тогда как сделай то же самое другой – выйдет грех, вопиющий к небу грех? В этом случае я не желаю принимать участия в таком бессмысленном прославлении. Если вера не в состоянии освятить убийства отцом сына, то пусть одинаково судят за такое дело и Авраама, и любого из простых смертных. А может, не хватает смелости довести эту мысль до конца и назвать Авраама убийцей? Но в таком случае лучше бы попытаться обрести смелость, нежели даром тратить время на незаслуженные хвалы. С этической точки зрения Авраам хотел убить сына; с религиозной – он хотел принести Исаака в жертву Богу; но такое противоречие этической и религиозной точек зрения как раз и подвергает человека в страх. И вместе с тем: если отнять у Авраама этот страх, он уже не будет тем, что он есть на самом деле.
Или, может быть, Авраам совсем и не совершал ничего такого, что о нем рассказывается? Может быть, в силу условий тогдашнего времени, дело это имело совсем иной смысл? Тогда забудем об Аврааме. Стоит ли помнить такое прошлое, которое не может стать сегодняшним настоящим?
Что до меня, то я не страдаю недостатком смелости продумать до конца любую мысль. Во всяком случае, до сих пор я не боялся никакой, а если наткнусь на такую, которой испугаюсь, то, надеюсь, у меня хватит, по крайней мере, искренности дознаться: да, эта мысль меня пугает, она что-то возмущает во мне, а потому я не хочу думать об этом , вот, если бы даже я признал судом истины, что Авраам был убийца, то я не знаю, смог ли бы я заставить смолкнуть мое благоговение перед ним.
Итак, можно ли говорить об Аврааме без обиняков, откровенно, не рискуя соблазнить кого-нибудь к такому деянию? Если этого нельзя, то лучше мне совсем молчать об Аврааме, и прежде всего я не стану низводить его на уровень ловушки для слабых душ. Если же считать, что вера – это все (как она и есть), то, мне кажется, можно говорить об Аврааме спокойно и откровенно и в наше время, едва ли отличающееся особой экстравагантностью по части веры, а ведь только верою и можно обрести сходство с Авраамом, но никак не убийством.
Итак, говорить об Аврааме можно: великое никогда не может принести вред, если только его понимают во всем его величии; оно подобно обоюдоострому мечу, который и убивает, и спасает. И выпади мне жребий говорить, я бы начал с того, каким благочестивым и богобоязненным был Авраам, достойный называться избранником Божиим. Лишь на такого и может быть возложено подобное испытание, но где найдется такой? Затем я бы описал, как Авраам любил Исаака, я призвал бы на помощь себе всех добрых гениев, чтобы речь моя была согрета тем же внутренним жаром, каким дышит отцовская любовь к сыну. И, надеюсь, мне бы удалось описать эту любовь так, что не много на земле нашлось бы отцов, решившихся утверждать, что и они так же любят своих сыновей.
В результате некоторая часть отцов довольствовалась бы до поры до времени размышлениями о том, не удастся ли и им так полюбить, как любил Авраам? Еcли же и нашелся бы среди них один, который, выслушав о величии содеянного Авраамом, а также обо всем ужасе этого деяния, осмелился бы двинуться тем же путем, я бы оседлал коня и поехал за ним. И на каждой остановке до горы Мориа я объяснял бы ему, что еще есть время вернуться, раскаяться в заблуждении и считать себя призванным к такому испытанию, что еще не поздно сознаться в недостатке мужества и предоставить Богу самому изъять у него Исаака, если Он того хочет.
Но любовь уже имеет своих жрецов в поэтах, и порою слышатся голоса, весьма умело отстаивающие любовь. О вере же не слышно ни слова: кто отдает ей честь, кто славит эту душевную страсть? Философия идет себе мимо, богословие сидит нарумяненное у окна и заискивает перед философией, выставляя перед нею напоказ, свои прелести. Трудно, дескать, понять Гегеля, а вот понять Авраама – пустое дело. Перешагнуть через Гегеля – чудо, а перешагнуть через Авраама – легче легкого. Что до меня, то я потратил немало времени на то, чтобы понять философию Гегеля, и полагаю, что мне удалось мало-мальски уяснить ее себе. Зато едва я пытаюсь уяснить себе Авраама, как чувствую себя словно уничтоженным. Тут я ежеминутно сталкиваюсь с тем чудовищным парадоксом, который составляет содержание жизни Авраама, и этот парадокс заставляет меня отпрянуть назад; мысль моя, несмотря на все свое страстное стремление, не в силах пробить в этом парадоксе брешь и продвинуться вперед хоть на волосок. Но я не думаю, не позволю себе на этом основании думать, будто вера – это нечто незначительное; напротив, я почитаю ее высочайшей вершиной и считаю нечестным со стороны философии, что она подменяет веру чем-то другим и смотрит на веру свысока.
Не безызвестны мне также бедствия и страдания житейские, но я не боюсь их, а смело иду им навстречу . Однако я хорошо знаю, что, хотя и смело иду навстречу великим бедам и ужасам жизни, все же мужество мое не есть мужество веры и никакого сравнения с нею не выдерживает. Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд; для меня это невозможно, но я не хвалюсь этим.
И в самом деле, способен ли кто-нибудь из моих современников проделать все душевные движения, связанные с верой? Если я не очень ошибаюсь в нашем веке, то он скорее склонен гордиться тем, на что, пожалуй, не считает способным меня, а именно: умением сводить веру на нет.
Мне глубоко не по душе, когда говорят и судят о великом так, как будто, отделяющие нас от этого великого несколько столетий – чудовищное расстояние, лишающее нас возможности судить о нем с чисто человеческой точки зрения, как если б оно случилось вчера, и отделяет нас от него лишь самое его величие, которое или возвышает душу, или осуждает. И вот, если бы меня в качестве трагического героя (выше я не могу .взбираться) пригласили предпринять такую необычайную поездку на гору Мориа, я знаю, что я сделал бы. Я бы не оказался таким трусом, чтобы остаться дома, не стал бы и медлить, и задерживаться в дороге, и не забыл бы ножа, чтобы как-нибудь оттянуть время. Я вполне уверен, что был бы на месте в назначенное время, пожалуй, даже раньше, и все было бы у меня в порядке, чтобы скорее покончить с назначенным. Но я знаю также, что бы я сделал кроме того. Садясь на коня, я сказал бы себе: все погибло, Господь требует Исаака, я принесу его в жертву, а с ним и всю свою радость, но Господь все-таки – любовь и пребудет таким для меня в вечности; в этой же временной жизни мы с Господом не можем сговориться: у нас нет общего языка.
Быть может, в наше время нашелся бы человек, настолько ограниченный и завистливый ко всему великому, чтобы вообразить себе и постараться внушить мне, что, соверши я действительно подобное, я превзошел бы самого Авраама, ибо мое неимоверное смирение было бы куда идеальнее и поэтичнее мелочности Авраама. Но это была бы чудовищная ложь, так как мое неимоверное смирение было бы лишь суррогатом веры.
Что же сделал Авраам? Он явился не слишком рано, не слишком поздно. Он сел на осла и медленно поехал по дороге. И все это время он продолжал верить, он верил, что Господь не потребует у него Исаака, хотя и был готов принести его в жертву, если бы это потребовалось. Он верил в силу абсурда. Ни о каких соображениях человеческих тут не могло быть и речи. Разве не абсурдно было полагать, что Господь, только что потребовавший от него жертвы, в следующую минуту вдруг откажется от своего требования? Авраам взошел на гору, но даже занося нож, все продолжал верить, что Господь не потребует Исаака. И хотя был поражен исходом, но силой душевного взмаха обрел силу своего первоначального душевного состояния и поэтому принял Исаака еще радостнее, чем в первый раз.
Дальше положим, что Исаак действительно был бы принесен в жертву. Авраам все-таки продолжал бы верить. И верил бы не в блаженство будущей жизни "там" , но верил бы, что достигнет блаженства здесь, на земле. Господь мог послать ему нового Исаака, воскресить принесенного в жертву. Авраам верил в силу абсурда, потому что всяким человеческим соображениям давно настал конец.
Приятно думать, что плод веры не есть художественное произведение, но лишь нечто неотесанное, неуклюжее, годное лишь для более грубых натур. Но это далеко не так. Нет ничего более тонкого и замечательного, нежели диалектика веры, обладающая силой душевного взмаха, о которой я могу иметь лишь представление, но не больше. Я могу сделать крутой скачок, переносящий меня в бесконечность. Спина у меня с детства гибкая, как у канатного плясуна, и мне ничего не стоит – раз – два – три! – перевернуться вверх ногами в бытии; но на большее я не гожусь, чудес творить не могу, а могу только им дивиться. И, если бы Авраам, садясь на своего коня, сказал себе: Исаак погиб, так не все ли равно было бы принести его в жертву дома вместо того, чтобы ехать так далеко на гору Мориа, – в таком случае я бы и знать не захотел Авраама, тогда как теперь я семикратно преклоняюсь перед его именем и семьдесят – перед его деянием. Да он и не говорил с собою так; я могу доказать это тем, что он так обрадовался, вновь обретя Исаака, обрадовался искренне, сразу, без всяких приготовлений.
И все же я не постигаю Авраама, не могу в известном смысле ничему научиться от него: я могу только удивляться ему. И воображать, будто размышление над исходом этого повествования приведет к вере, значит лишь обманывать себя и желать обмануть Бога насчет первого взмаха веры, и пытаться извлечь из парадокса житейскую мудрость. Быть может, это кому-нибудь и удастся, ибо наше время не останавливается ни на вере , ни на ее чудесах: что там претворение воды в вино? – наш век идет дальше ... и вино претворяют в волу.
Люди объезжают кругом весь свет, чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, уродливых рыб, нелепые расы существ и воображают, будто видели нечто особенное. Меня это не занимает. Но знай я, где найти рыцаря веры, я бы пешком пошел за ним -хоть на край света. И я бы уж ни на минуту не выпустил его из виду. Я счел бы себя вполне обеспеченным на всю жизнь, только и делая, что с благоговением наблюдая за ним, и сам подражал бы ему, упражняясь в тех же душевных переживаниях. И хотя я еще не нашел такого рыцаря, но вполне могу себе представить его...
Первое впечатление от него будет таково: "Господи! .Да он ли это? Ни дать ни взять – сборщик податей" . Тем не менее: это он. Я сближаюсь с ним, наблюдаю за малейшим его движением: не проявится ли хоть маленький признак его связи с Бесконечным – во взгляде, в выражении лица, в движении рук, улыбке; не выдаст ли себя чем-нибудь Бесконечное, столь несоизмеримое с конечным? Нет. Он в высшей степени цельное солидное существо. Его твердая, уверенная поступь вполне принадлежит миру конечного. Ни один разряженный горожанин, отправляющийся за город на воскресную прогулку, не шагает более твердой поступью. Он весь принадлежит к миру сему, ни один мещанин не может принадлежать ему безусловнее. Ничто не выдает его: ни взгляд, устремленный в небо, никакой иной признак не выделяют его из остальных членов паствы; а его громкое пение – псалмов доказывает самое большее, что у него здоровые легкие. И все-таки человек этот совершил, совершает ежеминутно движение Бесконечности. Он черпает в бесконечном смирении глубокую грусть бытия, он знает блаженство Бесконечности, он испытывал боль отречения от всего самого дорогого ему на свете, и все-таки все земное, конечное остается ему так же мило, как тому, кто не вкушал ничего высшего. Его пребывание в конечном мире не носит ни малейших следов забитости, робости, дрессированное животного. Напротив, он так спокойно, уверенно наслаждается миром сим, как будто конечное и есть самое положительное, навеки обеспеченное за ним. И все же, все же весь его земной облик – нечто новое, творимое в силу абсурда.
Глупцы и очень юные люди болтают, будто для человека все возможно. Это большое заблуждение. В духовном смысле все возможно, но в мире конечного многое невозможно. Рыцарь веры, однако, делает это невозможное возможным, давая ему духовное выражение, а дает он ему это духовное выражение тем, что отрекается от него. Бесконечное смирение – последняя стадия, предшествующая вере: и кто не совершил этого душевного движения, тот не имеет веры. Последнего движения, парадоксального движения веры, я, как ни хотел бы, не могу сделать, чем бы оно ни было – долгом или чем там еще. Но совершить движение бесконечного смирения во власти каждого человека, и лично я не задумался бы объявить трусом каждого, воображающего, что он этого не может. Другое дело – вера. Именно поэтому ни один человек не вправе внушать другим, будто вера есть нечто ничтожное или легкое, тогда как вера – величайшее и труднейшее из всех дел.
Повесть об Аврааме понимают не так, как должно. Прославляют милость Божью за то, что он вновь даровал Аврааму Исаака, за то, что требование такой жертвы было лишь искушением или испытанием. Этими словами можно сказать и очень много, и очень мало, между тем, стоит их произнести, вопрос уже кажется исчерпанным. Словно все дело в том, что садятся на крылатого скакуна, в один миг достигают горы Мориа и в тот же миг видят овна. Забывают, что Авраам ехал на осле, который медленно двигался по дороге, что находился Авраам в пути три дня, что ему понадобилось время, чтобы сложить костер и связать Исаака, и наточить нож.
И все же славословят Авраама. И ничто не мешает тому, кто будет держать речь, выспаться хорошенько прежде чем начать ее, а слушателям – вздремнуть во время речи: все идет как по маслу, нисколько не затрудняя ни одну из сторон. Случись тут человек, страдающий бессонницей, он, пожалуй, пойдет домой, усядется в уголке да подумает: "Все это минутное дело: одна минута – и ты увидишь овна, и испытанию конец". Застань его в таком состоянии оратор, последний, я думаю торжественно выступил бы и сказал: "Несчастный, как ты можешь предаваться такому безумию? Чудес не бывает, вся жизнь – испытание" . И чем дальше, тем оратор все больше входил бы в раж, все больше и больше радовался бы своему красноречию и пылу, чувствуя, как кровь бросается ему теперь в голову, – тогда как, говоря об Аврааме, он оставался совершенно бесстрастным. И, пожалуй, он совсем растерялся бы, скажи ему грешник спокойно и с достоинством: "Да ведь Вы же именно о чуде проповедовали в прошлое воскресенье".
Итак, не лучше ли нам либо совсем похерить Авраама, либо же научиться ужасаться тому чудовищному парадоксу, в котором состоит все значение жизни Авраама, понять, что наш век, как и всякий другой, должен радоваться, если имеет веру. Если только Авраам не круглый нуль, не фантом, не пустой громкий звук, которым забавляются от нечего делать, то желание подражать ему никак нельзя вменить в грех, но дело-то в том, что нужно сначала рассмотреть, в чем именно величие Авраама, чтобы судить – насколько человек вправе подражать ему, обладает ли он для этого нужным призванием и мужеством. Комическое противоречие поведения оратора заключается в том, что он превращал Авраама в ничтожество и в то же время хотел запретить подражать ему.
Так что же, совсем нельзя и говорить об Аврааме? Нет, я думаю все-таки можно. И если бы я стал говорить о нем, то начал бы с описания боли испытания. Я бы напомнил о том, что поездка длилась три дня и значительную часть четвертого. Что эти три с половиной дня должны были показаться бесконечно долгими, такими долгими, что в сравнении с ними бледнеют тысячелетия, отделяющие нас от Авраама. Я напомнил бы о том, что каждый человек имеет еще право вернуться вспять прежде, нежели предпримет что-нибудь подобное, каждую минуту может с раскаянием возвратиться вспять, таково мое мнение. И поступай люди так, нечего было бы опасаться пробудить в них охоту подражать Аврааму. Но, когда хотят выпустить Авраама в дешевом издании и все-таки запретить другим делать так же, – воля ваша, это выходит смешно.
ПРОБЛЕМА I
Возможно ли теологическое упразднение этического?
Этическое, как таковое, есть общее, и, как общее, оно обязательно для всех и каждого. Этическое обязательно имеет значение в каждую минуту, всегда. Оно имманентно покоится в самом себе, не имеет вне себя ничего, что составляло бы его внешнюю цель. Напротив, оно само является целью для всего, находящегося вне его, и по включении этого в себя, этическому дальше идти некуда. Любое единичное лицо имеет свою внешнюю цель в общем, и этической задачей индивидуума является постоянно выражать себя в общем; отрешаться от всей единичности, чтобы стать общим.
Если это слияние с общим есть высшее, что можно сказать о человеке и о его существовании, то этическое равнозначаще для человека вечному блаженству, которое вечно и в каждую данную минуту является целью человека... Если же это не так, то прав Гегель, говоря, что человек по отношению к добру и совести существует лишь, как единичное. Но тогда он не прав в том, что он говорит о вере, и, будучи логичным до конца, ему следовало бы выразить горячий протест против прославления Авраама как отца веры, ибо, по логике Гегеля, Авраама следовало бы заклеймить как убийцу.
Дело в том, что вера как раз означает тот парадокс, что единичное выше общего – при том, однако, условии, что единичное, только побывав в лоне общего, выделяет себя, как нечто высшее. Если же признать наивысшим общее, т. е. этическое, нравственное, то нет надобности говорить о вере и не понадобится никаких иных категорий, кроме тех, какие знала греческая философия. Принято говорить, что в язычестве не было веры, и не редкость встретить людей, которые, за невозможностью углубиться в сущность этого вопроса или явления, увлекаются фразами, говоря, что христианство озарено светом, тогда как язычество окутано мраком. Последние речи всегда казались мне странными, тем более что и в наше время каждый положительный мыслитель, каждый серьезный художник все еще черпает духовное обновление в вечной юности древней Греции. Что же касается того, что в язычестве не было веры, то, чтобы говорить это с некоторым основанием, надо бы немножко разобраться в том, что подразумевается под верой, а то ведь опять все сведется к фразам.
Когда делу всего народа, предприятию, на котором сосредоточивались все заботы народа, грозила неудача, когда такое предприятие останавливалось на полпути немилостью неба, когда злое божество посылало штиль, парализовавший все усилия народа, и когда прорицатель, выполняя свой тяжелый долг, возвещал, что боги требуют в жертву молодую девушку, отцу ее оставалось только мужественно принести эту жертву. Кроме того, он должен был героически скрывать свою скорбь, хотя в душе он желал бы, возможно, быть ничтожнейшим из смертных, имеющих право плакать, а не царем, обязанным поступать по-царски. И если даже скорбь прокрадывалась в его душу, когда он был в полном одиночестве или всего при трех свидетелях из народа, вскоре весь народ становился свидетелем его скорби, но также свидетелем его подвига: принесения в жертву общему благу дочери, молодой прекрасной девушки. Дочь трогала отца своими слезами, и отцу приходилось отвратить лицо свое, но герой в его лице все-таки заносил нож. Когда же весть об этом достигала его родины, все молодые девушки Греции вспыхивали восторгом, а если жертва была невестой, то и жених не приходил в гнев, но гордился своим участием в подвиге отца, ибо девушка принадлежала ему в силу еще более нежных уз.
Когда храбрый судия израильский, спасший народ свой в час бедствия, связывал одним и те же обетом и Господа, и себя, ему предстояло вооружиться всем мужеством, чтобы превратить в скорбь ликование девушки, радость любимой дочери. И весь Израиль печалился с нею, жалея ее девственную юность. Но каждый благородный муж должен был понять Иефая, каждая великодушная женщина должна была быть на месте его дочери: ибо какой же прок был бы от победы Иефая, одержанной в силу его обета, если бы он не сдержал его? Разве победа не могла бы тогда быть вновь вырвана из рук народа?
Когда сын забывал свой долг, и государство вручало меч судии отцу, и законы требовали кары виновному, отцу оставалось только мужественно забыть, что виновный – его сын, великодушно скрыть свою скорбь, но во всем народе не нашлось бы ни одного человека, не исключая и его сына, который бы не удивился отцу; и при каждом новом толковании римских законов будет вспоминаться, что многие толковали их мудрее, но никто славнее Брута.
Но если бы, напротив, Агамемнон, плывя к цели с попутным ветром, вздумал послать за Ифигенией, чтобы принести ее в жертву; если бы Иефай, несвязанный никаким обетом, от исполнения которого зависела бы судьба народа, вздумал сказать своей дочери: "Оплакивай теперь два месяца свою краткую юность – я хочу принести тебя в жертву"; если бы Брут, имея праведного сына, все же вздумал призвать ликторов, чтобы казнить его, кто понял бы таких отцов? И если бы эти трое отцов на вопрос, почему они поступили так, ответили бы: это было испытание, наложенное на нас свыше, лучше ли поняли бы их тогда?
Когда Агамемнон, Иефай и Брут в решительную минуту превозмогли свою скорбь, великодушно простились в душе с дорогим существом, и им оставалось только совершить последний шаг, какой человек с благородной душой не прослезился бы при виде их скорби, не удивился бы их подвигу? Но если бы эти трое в решительную минуту, принесшую им столько горя, прибавили бы: "Ничего такого все равно не произойдет", кто тогда понял бы их? И если бы они в виде объяснения прибавили: "Мы верим, что этого не будет, верим в силу абсурда" , разве тогда их поняли бы лучше? То есть понять, что это абсурд, всякий бы понял, но понять возможность верить в силу абсурда дано не всякому.
Различие между этими трагическими героями и Авраамом само бросается в глаза. Трагический герой остается еще в пределах этики. Он подчиняет свое личное этическое более высокому общему, но тоже этическому, он низводит этическое отношение между отцом и ребенком до степени личного чувства, которое может быть диалектически подчинено более высокому этическому – долгу перед общим. Тут не может быть и речи о теологическом упразднении самого этического.
Иное дело Авраам. Своим деянием он перешагнул через границы этики и обрел вне ее ту высшую цель, опираясь на которую и упразднил долг свой по отношению к этике. В противном случае хотел бы я знать, каким образом сохранить связь между деянием Авраама и общечеловеческим. Найдется ли какая точка соприкосновения между тем, что совершил единичный человек Авраам, и общечеловеческим, общим, кроме той, что Авраам переступил границы общего? И сделал он это не ради спасения народа своего, не ради отстаивания идеи государства, не ради умилостивления разгневанных божеств. Если и может здесь идти речь о божественном гневе, то лишь о гневе на самого Авраама, и все деяние Авраама не имело никакого отношения к общему, являлось делом совершенно частным, личным делом самого Авраама. Таким образом, трагический герой велик своей гражданской добродетелью. В жизни Авраама не было более высшего выражения этического, нежели долг отца любить сына. О гражданском же долге тут не могло быть и речи. Общее, поскольку оно тут содержалось, заключалось в самом Исааке, было, так сказать, скрыто в чреслах Исаака и должно было бы крикнуть устами Исаака: "Не делай этого, ты все губишь".
Чего же ради Авраам делал это? Ради Господа и вместе с тем ради самого себя. Он делал это ради Господа, ибо Господь требовал такого доказательства его веры, и ради самого себя, чтобы иметь возможность такое доказательство дать. И совершенно правильно это единство мотивов обозначается тут словом "испытание" , или искушение, которое везде применяется в этом случае. Искушение: что же это значит? Обыкновенно искушение заключается для человека в чем-нибудь таком, что побуждает его уклониться от исполнения своего долга, тут же искушение исходило от самой этики, которая искушала Авраама уклониться от исполнения воли Божией. Но что же такое в данном -случае долг? Долг ведь именно в исполнении воли Божией.
Очевидно, чтобы понять Авраама, нужно создать новую категорию. Такого отношения к Божеству язычество не знало. Трагический герой не входил ни в какие частичные отношения с Божеством, для него этическое равнялось Божественному, почему и представлялось возможным примирить единичное с общим.
Для Авраама нет примирения. Поэтому, возбуждая мое удивление, Авраам в то же время ужасает меня. Тот, кто отрекается от самого себя и жертвует собой ради долга, отказывается от конечного, чтобы обрести Бесконечное, и не ошибается. Трагический герой отказывается от верного ради еще вернейшего, и взор совершающего не выражает недоумения или тревоги. Но тот, кто отказывается от общего, чтобы обрести нечто еще высшее, что уже не является общим, но его единичным, он что делает? Если это не соблазн, то что же? И если не соблазн, но ошибка, в чем же ему найти спасение? Он терпит все муки трагического героя, убивает свою радость в этом мире, отрекается от всего, и созерцающий его никак не может его понять, не может не смотреть на него с недоумением и тревогой. Трагический герой нуждается в слезах и требует их, и чьи же завистливые глаза не пролили бы их вместе с Агамемноном? Но какая заблудшая овца рискнула бы оплакивать Авраама?
Над Авраамом нельзя плакать. К нему подходишь с религиозным страхом, благоговейным трепетом, как подходил Израиль к горе Синай.
Но если этическое таким образом теологически отменено, каким же образом существует единичный человек, в котором оно упраздняется? Он существует, как единичное, в противоположность общему. Как существовал Авраам? Он верил. Вот парадокс, в силу которого он очутился на крайней точке и которого он не может объяснить никому другому, ибо парадокс этот заключается в том, что он, как единичный человек, ставит себя в абсолютное отношение к абсолютному. Вправе ли он? Его право – опять парадокс, ибо если он вправе, то не в силу чего-то общего, а в силу своей единичности.
Как же удостовериться такому единичному человеку в своем праве? Легче легкого подвести все существующее под один уровень, руководствуясь идеей государственного или общественного долга. Сделав это, нетрудно примирить противоречия, ведь тогда и не приходишь вовсе к тому парадоксу, что единичное, как единичное, выше общего.
Когда же все-таки берутся рассуждать о парадоксе, то чаще всего эти рассуждения сводятся в наше время к банальному выводу: все зависит от результата. Герой, ставший соблазном для своего века, сознавая, что он представляет собой парадокс, который не может сделать себя понятным для других, спокойно говорит современниками: "Результат докажет вам, что я имел право".
Однако внимательный современник, подходя к великому, не может никогда забыть, что с самого сотворения мира повелось так, что результат является последним фазисом, и что если действительно хочешь научиться чему-нибудь от великого, то прежде всего надо обратить внимание на начало. Если тот, кто собирается совершить что-нибудь, станет судить о себе самом по результату, то ему никогда не начать. Ведь даже если результаты обрадуют весь мир, герою от этого мало толку; он-то ведь может узнать о результате лишь тогда, когда все кончено, и не результат доказывает ему его геройство, а начало, смелость начинания. Разве возможно доказать, что Авраам был вправе противопоставить себя, как единичное, общему только потому, что в результате чудесным образом (благодаря чуду) снова обрел Исаака? А если бы Авраам действительно принес Исаака в жертву, разве он оказался бы менее правым?
Но результатом интересуются, как концом интересной книги; страха же, горя, парадокса знать не хотят. Эстетически заигрывают с результатом, который является столь же неожиданно и столь же легко, как лотерейный выигрыш, а узнав о результате, испытывают полное нравственное удовлетворение.
Не по душе мне говорить о великом, как о чем-то сверхчеловеческом. Ведь не то, что со мною случается, делает меня великим, но то, что я сам совершаю, и едва ли кому вздумается считать человека великим за то, что ему случилось взять главный выигрыш в лотерее. Каждый человек должен отнестись к себе самому настолько по-человечески, чтобы не бояться помыслить о вступлении в те чертоги, где обитает не только память о великих избранниках, но и они сами. Он не должен дерзко врываться туда и навязываться им в родню. Но пусть почитает себя счастливым всякий раз, как преклоняется перед ними, и в то же время пусть сохраняет в полной мере свое человеческое достоинство и, паче всего, не воображает себя каким-то прислужником. Если он не будет стремиться ни к чему высшему, он никогда и не достигнет его. Поддержкой же ему послужит именно страх и трепет, посланные в испытание великим людям. При иных условиях последние могут возбудить в нем – раз он мало-мальски живой человек – одну лишь справедливую зависть.
Когда поэт выставляет своего трагического героя на поклонение людям, дерзая прибавить: "Плачьте над ним, он того заслуживает", получается величественное впечатление; но всего величественнее, когда рыцарь веры дерзает сказать даже благородному человеку, готовому заплакать над ним: "Не плачь обо мне, плачь о себе!"
ПРОБЛЕМА II
Существует ли абсолютный долг перед Богом? Этическое есть общее и как таковое, следовательно, божественно. Поэтому правильно будет сказать, что каждый долг есть в сущности долг перед Богом. Долг становится долгом, переносясь на Бога, но в самом исполнении долга я не становлюсь в соотношение с Богом. Так, долг повелевает любить ближнего. Это долг, потому что это долг перед Богом, но, выполняя этот долг, я вступаю не в союз с Богом, а только с ближним, которого люблю. Если же я, согласно этому, скажу, что любить Бога мой долг, я впаду в тавтологию, поскольку "Бог" берется тут в совершенно отвлеченном смысле, как божественное, то есть общее, то есть долг. Таким образом, все бытие человечества округляется, образуя ядро в самом себе, и этическое является одновременно и границами его, и содержанием.
Бог становится невидимым, исчезающей точкой, бессильной мыслью; его сила лишь в этическом, всенаполняющем бытии. Если бы поэтому кто-нибудь вздумал любить Бога в каком-нибудь ином смысле, нежели в указанном здесь, то это было бы преувеличением, экзальтацией; он любил бы призрак, который, обладай он силой слова, сказал бы ему: "Я не требую твоей любви; не выходи из своих рамок". Вообще вздумай кто-нибудь любить Бога иначе, такая любовь являлась бы весьма сомнительной, как та любовь, которую имеет в виду Руссо, говоря, что в наше время любят негров вместо того, чтобы любить ближнего.
Этическое мировоззрение ставит единичной личности задачу: выразить свое внутреннее определение или проявить свою идею во внешнем. Парадокс веры состоит в том, что внутреннее ее содержание, или идея, и внешнее ее проявление – несоизмеримые величины. Надо, впрочем, заметить, что внутреннее содержание в данном случае не то же самое, что в предыдущем, но совершенно новое. Вот чего не следует упускать из виду. Новейшая философия позволила себе без дальнейших рассуждений подменить сущность веры, отнеся "веру" к области непосредственного. Но, поступая так, смешно отрицать, что вера существовала во все века. Таким образом, вера попадает в компанию – довольно незавидную – с ощущением, настроением, идиосинкразией и пр.
В таком случае философия, конечно, права, утверждая, что не следует останавливаться на вере. Но ничто не дает философии права выражаться так. Вере предшествует движение бесконечности, и лишь тогда выступает сама вера в силу абсурда. Это я отлично могу понимать, хотя и не смею утверждать, что сам обладаю верой. Если же вера – не что иное, как то, за что ее выдает философия, то значит, уже Сократ ушел дальше, куда дальше веры; на самом же деле было как раз наоборот: он не дошел до нее. Он в интеллектуальном отношении совершил движение к бесконечности. Его неведение – бесконечное смирение. И дойти до такого смирения уже приличная задача для сил человеческих, хотя в наше время и пренебрегают ею; но лишь выполнив ее, лишь когда единичное лицо всецело исчерпало себя самое в бесконечном смысле, наступает минута для проявления веры.
Парадокс веры состоит в том, что единичное выше общего. Можно выразить парадокс и таким образом что существует абсолютный долг перед Богом.
В повести об Аврааме мы и находим такой парадокс. С этической точки зрения отношение Авраама к Исааку исчерпывается тем, что отец должен любить сына. Но этическое отношение низводится до степени относительного – в противоположность абсурдному отношению к Богу. На вопрос "Почему?" у Авраама нет иного ответа, кроме того, что это испытание, искушение, выдержанное им ради Бога и ради себя самого. Оба эти определения не отвечают одно другому в общепринятом языке. Согласно этому языку, когда человек творит нечто несогласованное с общим, про него говорят, что вряд ли он делает это ради Господа, подразумевая, что он делает это ради себя. Между тем парадокс веры лишен этого промежуточного звена – общего. С одной стороны, он выражает собой высший эгоизм (совершая ужасное ради себя самого), с другой – абсолютнейшую беззаветность, совершая это ради Господа. И тут один рыцарь веры ничем не может помочь другому. Единичный человек или становится сам рыцарем веры, взяв на себя парадокс, или никогда им не становится. Товарищество в этих сферах совершенно немыслимо. Всякое более интимное объяснение того, что следует понимать под "своим Исааком" , единичный человек может дать и постоянно давать лишь самому себе. И если даже возможно было бы точно определить, что следует вообще понимать под "Исааком" , то все же единичный человек никогда не может убедиться в этом через других, чужим умом, но должен дойти до этого собственным разумом, как данному единичному человеку.
Абсолютный долг может привести к совершению того, что этика запретила бы, но он отнюдь не может заставить рыцаря веры перестать любить. Это доказывает Авраам. В ту минуту, когда он хочет принести Исаака в жертву, он – с этической точки зрения – ненавидит Исаака. Но если бы он действительно ненавидел Исаака, то мог бы быть спокойным, что Бог не потребовал бы от него этой жертвы: Авраам ведь не тождественен Каину. Авраам должен был любить Исаака всею душою, когда же Бог потребовал его в жертву, Авраам должен был полюбить сына, если возможно, еще больше, и лишь тогда мог пожертвовать им; ведь эта любовь к Исааку своею парадоксальной противоположностью его любви к Богу и превращала его поступок в жертву. Но боль и страх парадокса в том, что Авраам, говоря по-человечески, не может сделать себя понятным. Лишь в ту минуту, когда его поступок идет абсолютно вразрез с его чувством, он и жертвует Исааком. Реальный же или практический смысл его поступка определяется его принадлежностью к общему, а в этом смысле Авраам был и есть убийца.
Часто полагают, что нет ничего легче существования в качестве единичного человека, а потому как раз и нужно принуждать людей примкнуть к общему. Я не могу разделять ни этого страха, ни этого мнения и по одной и той же причине.
Кто постиг, что существование в качестве индивидуума страшнее всего, тот не побоится сказать, что в этом заключается наивысшее, но сумеет также сказать это таким образом, чтобы речь его не стала ловушкой для заблудшего, а скорее помогла ему примкнуть к общему.
Кто же полагает, что ничего нет легче бытия в качестве единичного, тот косвенным образом выставляет себя самого в довольно невыгодном свете. Ибо тот, кто действительно уважает себя и печется о душе своей, уверен в том, что живущий на собственный страх одиноко в целом мире, ведет более строгую и замкнутую жизнь, чем красная девица в своем тереме. Мало ли таких, которые если их пустить по их воле, закружатся, словно неукрощенные звери, в себялюбивой похоти? Но следует именно показать, что не принадлежишь к их числу, показать тем, что умеешь говорить со страхом и трепетом и с благоговением перед великим, чтобы знали, что оно велико, и знали его ужасы, без чего нельзя знать и величия его.
Давайте же взвесим боль и страх, которые заключаются в парадоксе веры. Трагический герой отрекается от себя, чтобы примкнуть к общему; рыцари веры отрекаются от общего, чтобы стать единичным. Все зависит от точки зрения. Как уже сказано, кто считает легким делом существование в качестве единичного человека, может быть уверен, что он не рыцарь веры. Рыцарь веры, напротив, знает, какая завидная доля принадлежит к общему. Он знает, что прекрасно родиться единичным, который находит себя в общем, который всегда встречает радушный прием со стороны общего, лишь бы ему захотелось остаться в общем. Но он знает также, что выше этого вьется одинокая тропинка, крутая и трудно восходящая. Он знает, что ужасно родиться одиноким, отлученным от общего, совершать свой путь в полном одиночестве. Он отлично знает, где он и в каком отношении находится к людям. В человеческом смысле он безумен и не может сделать себя понятным ни для кого.
Так, верно, Авраам мог временами желать, чтобы ему была поставлена задача любить Исаака, как подобает отцу, понятным для всех образом и незабвенным во все времена, он мог бы пожелать, чтобы задачею ему было поставлено пожертвовать Исааком ради общего, чтобы он мог воодушевить отцов к славному деянию, и он почти ужасался мысли о том, что такие желания с его стороны лишь соблазны и должны рассматриваться как таковые, ибо он идет одиноким путем и ничего не совершит для общего, но лишь подвергает себя личному испытанию, искушению.
В самом деле, что совершил Авраам в пользу общего? Я буду говорить об этом чисто по-человечески. У него ушли десятки лет на то, чтобы обрести сына в старости. То, что другие обретают довольно быстро и чему радуются долго, он добыл ценою многолетнего ожидания, а почему? Потому что он подвергался испытанию, искушению. Разве это не безумие? Но Авраам верил, только Сарра поколебалась и уговорила его взять в наложницы Агарь. Зато ему и пришлось затем прогнать Агарь из дому. Он обрел Исаака, и его опять подвергли испытанию. Он знал, что чудесно выражать собою общее, чудесно жить с Исааком. Но не в том была его задача. Он знал, что было бы по-царски пожертвовать таким сыном ради общего и что он сам мог найти успокоение в такой мысли, и все другие могли бы успокоиться, прославляя его подвиг, но не в том была задача – его подвергли испытанию. Римский полководец, прославившийся под именем Кунктатора, остановил врагов своею медлительностью, но каким же "кунктатором" является в сравнении с ним Авраам! А он не спас этим государства. Вот содержание его 130-летней жизни. Кто в силах выдержать подобное? И разве не сказали бы его современники, если бы могла идти речь о таковых: "Он никогда не подвинется ни на волос дальше, этот Авраам: насилу-насилу добился сына, теперь хочет пожертвовать им; ну, не безумец ли? Да хоть бы еще мог объяснить – почему, а то вечно у него какое-то испытания". И действительно, другого объяснения Авраам не мог дать, жизнь его – словно книга, находящаяся под божественным запретом и не становящаяся общим достоянием.
Кто не видит этого, может быть всегда уверен, что он не рыцарь веры, кто же видит это, не сможет отрицать, что даже подвергшийся самым трудным испытаниям трагический герой идет легкою стопою в сравнении с рыцарем веры, который пробирается вперед медленно и ползком.
Рыцарь веры предоставлен лишь себе самому – вот в чем весь ужас. Большинство людей относятся к этическим обязательствам так, что предоставляют каждому дню свою заботу, но зато они никогда и не доходят до той страстной сосредоточенности, той энергичной уверенности, как рыцарь веры. Трагическому герою может в известном смысле помочь дойти до этого общее, рыцарь же веры предоставлен себе самому.
Рыцарь веры может положиться только на себя: скорбеть о том, что не может стать понятным для других, но не испытывать суетного желания руководить другими. Скорбь подкрепляет его, он чужд суетного желания, для этого душа его слишком серьезно настроена. Поддельный же рыцарь легко выдаст себя тем поддельным идеализмом, который наскоро усвоил себе. Он совсем не понимает, о чем идет речь, не понимает, что раз другой единичный человек захочет идти тем же самым путем, то должен также обособиться и, следовательно, не нуждается ни в чьем руководстве, а тем паче, в руководстве того, кто сам себя навязывает в руководители.
Итак, либо не существует абсолютного долга перед Богом, либо, если таковой существует, то он представляет собою вышеописанный парадокс, в силу которого единичное, как единичное, выше общего и, как единичное, находится в абсолютной связи с абсолютным; или же никогда не существовало на свете веры.
ЭПИЛОГ
Вера – высшая страсть в человеке. Пожалуй, в любом поколении найдется много людей, которые даже не дошли до нее, но не найдется ни одного, который мог бы уйти дальше нее. Не берусь решать, много ли найдется в наше время людей, которые еще не дошли до нее, могу в этом отношении только сослаться на самого себя: я не скрываю, что мне еще далеко до веры, но я не пытаюсь на этом основании осквернять великое или обманывать себя, превращая веру в детскую болезнь, в безделицу, которую желательно поскорее оставить позади. Впрочем, и тому, кто еще не дошел до веры, жизнь ставит достаточно задач, и при честном к ним отношении и его жизнь не останется бесплодной, хотя бы и не уподобилась жизни тех, кто понял и обрел величайшее – ВЕРУ.