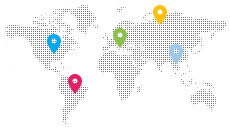ПИСЬМА ДРУГУ 5
21.6.44
...Сейчас ты где-то ищешь свою часть, и я надеюсь, что, когда ты в нее прибудешь, тебя уже будут ждать письма; разумеется, в том случае, если номер полевой почты еще не изменился. Вообще говоря, я сегодня собираюсь ограничиться только приветом. У меня недостает смелости продолжить свои теологические рассуждения или послать еще стихотворения, ведь я не знаю, найдет ли тебя полевая почта. Как только я это узнаю, ты получишь продолжение. За твою оценку и критику стихотворения я тебе очень благодарен. Я довольно растерянно стою перед этими моими новорожденными и не знаю, какие критерии к ним приложить....Сегодня утром мы пережили самый страшный из всех налетов. В моей комнате несколько часов было так темно от дыма, окутавшего город, что я только что свет не зажег. Дома все в порядке, я уже узнал...Вторично провожу здесь прекрасные и долгие летние дни, и на душе иногда бывает довольно тяжело, но ведь не мы выбираем места, куда попадаем. И вот приходится то и дело продираться сквозь ничтожные мысли, вызывающие досаду, пока не пробьешься к высоким мыслям, дающим поддержку.Я читаю сейчас просто великолепную книгу классического филолога В. Ф. Отто (из Кенигсберга) «Боги Греции», книгу о «мире, вера которого вышла из богатства и глубины жизни, а не из ее забот и тоски», как он пишет в конце. Понимаешь ли ты, что эта формулировка и соответствующая манера изложения настолько меня очаровывают, что у меня—horribile dictu!—изображенные таким образом боги вызывают меньше протеста, чем иные формы христианской религии? что я почти уверен, что этих богов можно использовать на службе Христу? Для моих теперешних теологических рассуждений эта книга очень ценна.
Счастье и горе
Счастье и горе, мгновенно и мощно постигающие нас, в самом начале
(как жар и холод при внезапном прикосновении)
близки до неразличимости.
Как метеоры, заброшенные из далей Вселенной, прочерчивают они свой путь, сверкающие и грозные, над нашими Головами.
Постигнутые ими стоят потрясение
пред руинами
их будничного тусклого бытия.
Величественно, изысканно, разрушающе, покоряюще вторгаются счастье и горе, желанные и нежданные, торжественно
в жилища потрясенных людей, украшают и облекают постигнутых серьезностью и святостью
Счастье полно трепета, горе—сладости
Нераздельными, мнится, из вечности приходят одно и другое. Величье и ужас на них
Люди, кто издалека, кто из соседних мест, сбегаются и, уставившись, глазеют,—
зависть пополам с боязнью,—
на невиданное, где Неземное, благословляя кряду и истребляя, выводит себя в запутанном—не распутать—
земном действе
Что есть счастье, что горе?
Лишь время разводит их
Когда непостижимо волнующее, внезапное событие
обращается в изнуряющую мучительную вечность, когда лишь медленно скользящие часы
открывают нам подлинный горя лик, тогда большинство отворачивается
с оскоминой, набитой однообразием
состарившегося горя, с разочарованием и скукой
Это и есть час верности, час матери и возлюбленной, час друга и брата
Верность просветляет всякое горе
и окутывает его тихо
мягким, неземным сиянием
27.6.44
Хотя я вовсе не знаю, получишь ли ты письмо и когда, я пишу тебе по прежнему номеру полевой почты. Но с продолжением теологической темы лучше повременить, пока не получу от тебя известия. Это относится и к стихам, которые—в особенности последнее, довольно длинное стихотворение о впечатлениях, полученных здесь,— скорее подходят для какой-нибудь встречи вечером, чем для долгого путешествия в конверте... В настоящее время я пишу истолкование первых трех заповедей. Особенно трудно дается мне первая. Обычное объяснение «кумира» как «маммоны, похоти и тщеславия» представляется мне совсем не библейским. Это морализация. Идолам поклоняются, причем служение идолам предполагает, что человек вообще чему-то еще поклоняется. Мы же вовсе ничему не поклоняемся, даже идолам. В этом-то и заключается наш подлинный нигилизм.
Еще несколько мыслей по поводу Ветхого Завета. В отличие от других восточных религий вера Ветхого Завета не является религией спасения. Не здесь ли корень фундаментального заблуждения, в результате которого Христос отделяется от Ветхого Завета и истолковывается с точки зрения мифа о спасении? На возражение, что и в Ветхом Завете спасение (из египетского, а позднее—из вавилонского плена, см. Второисайя) имеет решающее значение, можно ответить, что здесь речь идет об историческом спасении, т. е. по эту сторону границы смерти, тогда как мифы о спасении везде сводятся к преодолению этой границы. Израиль спасен из египетского плена, чтобы он как Божий народ мог жить на земле перед Богом. Мифы о спасении ищут вечности после смерти, вне связей с историей. «Шеол», ад—не порождения метафизики, а образы, за которыми стоит земное «былое», изображаемое хотя и как существующее, но дотягивающееся до настоящего лишь призрачно, как тень.
Тогда говорят: суть дела в том, что в христианстве возвещается надежда на воскресение и что таким путем, дескать, возникла настоящая религия спасения. Центр тяжести тут переносится по ту сторону границы смерти. И вот именно здесь вижу я ошибку и опасность. Спасение теперь означает избавление от забот, нужды, страхов и тоски, от греха и смерти в лучшем мире. Но разве в этом заключается сущность христианского возвещения и провозвестия Павла? Я с этим не согласен. Христианская надежда на спасение тем и отличается от мифологической, что она совершенно по-новому и по сравнению с Ветхим Заветом в более заостренной форме отсылает человека к его жизни на земле.
У христианина, в отличие от верующих в мифы о спасении, нет последней лазейки в вечность для избавления от земных дел и трудностей, но, как Христос («Боже Мой, почему Ты Меня оставил?»), он должен сполна испить чашу земной жизни, и только в том случае, если он так поступает, Распятый и Воскресший стоит рядом с ним, а он со Христом распинается и воскресает. Мир этот не может быть снят до срока. В этом общее у Нового и Ветхого Заветов. Мифы о спасении рождаются из человеческого пограничного опыта. Христос же настигает человека в средоточии его жизни.
Ты видишь, что меня обуревают все те же мысли. Теперь каждой в отдельности нужно дать обоснование из Нового Завета. Но это несколько позже.
Я прочитал в газете о тропической жаре в Италии, бедняга! Вспоминаю август 1936 года. Псалм 120,6!
30.6.44
Сегодня был здесь жаркий летний день, но я мог наслаждаться солнцем лишь со смешанным чувством, зная, какие мучения оно может причинить сейчас тебе. Думаю, что ты сидишь где-нибудь весь в пыли, покрытый потом, усталый, не имея, наверное, возможности помыться и освежить себя. Могу себе представить, что ты иногда начинаешь ненавидеть солнце. Но знаешь, я тем не менее хотел бы как-нибудь по-настоящему ощутить его во всей мощи, когда оно жжет кожу и постепенно раскаляет все тело, так что человек снова вспоминает о своей плотской природе; мне бы хотелось ощутить усталость от него, а не от книг, я бы хотел, чтобы оно пробудило во мне мое биологическое бытие,—не животное начало, унижающее человеческую природу, но то, что освобождает из спертой и неподлинной атмосферы исключительно духовного существования и делает человека чище и счастливее.
Я хотел бы однажды не просто видеть солнце и в меру наслаждаться им, но познать его телесно. Романтическое преклонение перед солнцем, опьяняющееся лишь восходами и заходами, вовсе не знает солнца как мощной силы, как реальности, для него солнце, если на то пошло, всего лишь образ. Эти романтики никогда не поймут, почему солнцу поклонялись как Богу, с этим связано восприятие не только света и цвета, но и зноя. Жаркие страны от Средиземноморья и до Индии, до Центральной Америки и были подлинно творческими в духовном плане странами. Страны с прохладным климатом жили за счет духовной продуктивности первых, а их оригинальные достижения, как, например, техника, служат в принципе не духу, но материальным потребностям жизни. Может быть, по этой самой причине нас так и тянет в жаркие края? Но могут ли такие мысли хотя бы отчасти примирить человека с мучениями от жары? Однако вполне вероятно, что тебе сейчас все это безразлично, и ты просто-напросто мечтаешь вырваться из этого пекла и припасть к кружке берлинского светлого пива. Хорошо помню, как я в июне 1923 года мечтал выбраться из Италии и смог свободно вздохнуть только в Шварцвальде на пешей прогулке в дождливый день. А ведь тогда мне не надо было воевать, и можно было просто наслаждаться жизнью. Вспоминаю еще, как ты в августе 1936 года с ужасом отверг саму идею проехать дальше, до Неаполя. Как ты переносишь это хотя бы просто в физическом отношении? Раньше без «эспрессо» невозможно было обойтись, и К. тогда, к моей досаде (проистекающей от молодости), просадил на кофе кучу денег. Но это еще не все, на самые ничтожные расстояния брали извозчика и то и дело ели мороженое.Только что получил радостное известие, что ты написал письмо и что номер полевой почты не изменился, из чего я заключаю, что ты разыскал свою старую часть. Ты не можешь себе представить, как успокоила—во всяком случае, относительно—меня эта новость...Пару часов назад здесь объявился дядя Пауль *, чтобы лично проверить условия, в которых я содержусь. Смешно до невозможности было видеть, как все забегали, захлопотали, стремясь перещеголять друг друга (за некоторыми славными исключениями) в подхалимстве. Отвратительно, но для некоторых—уж такими они уродились—просто необходимо.
А теперь попытаюсь продолжить недавно прерванную теологическую тему. Я исходил из того, что Бог все дальше и дальше вытесняется из ставшего совершеннолетним мира, из сфер нашего познания и нашей жизни, и со времен Канта сохраняет позиции только по ту сторону эмпирического мира.
Теология, с одной стороны, в апологетическом усердии противилась такому развитию и (тщетно) пыталась атаковать дарвинизм и т.п. С другой стороны, она смирилась с таким ходом вещей, оставив для Бога роль deus ex machina в сфере так называемых последних вещей, т. е. Бог становится ответом на жизненные вопросы, решением жизненных проблем и конфликтов. Вот и получается, что там, где человек не сталкивается с такими вещами или же избегает углубляться в них и давать простор для сострадания, там он фактически закрыт для Бога; или же ему необходимо без всяких жизненных проблем доказать, что в действительности он глубоко погряз в этих вопросах, нуждах, конфликтах, не ведая об этом или не отдавая себе в этом отчета.
Если это удается (а экзистенциальная философия и психотерапия разработали в этой области самые утонченные методы), тогда человек становится открытым для Бога, и методизм может торжествовать победу. Если же ничего не выходит и человека не удается довести до того, что он начинает смотреть на свое счастье, как на погибель, на здоровье—как на болезнь, на свою жизненную силу—как на отчаяние, то это значит, что теология со своей латынью тут бессильна. Одно из двух: либо здесь попался закоренелый грешник особо злокачественной породы, либо «пресыщенный буржуа», ведь до спасения нет дела ни одному, ни другому.Это как раз та позиция, против которой я выступаю. Когда Иисус даровал спасение грешникам, то это были настоящие грешники, но он ведь не делал из каждого человека сначала грешника. Иисус призывал их оставить грех, а не погрязать в нем. Разумеется, встреча с Иисусом означала пересмотр всех оценок в отношении людей. Так было в случае обращения Павла. Но тут встреча с Иисусом предшествовала познанию греха. Согласен, что Иисус брался за типов, стоящих на краю человеческого общества, заботился о проститутках, сборщиках налогов, но все-таки не только о них, ибо его забота касалась вообще людей. Не было случая, чтобы Иисус ставил под сомнение здоровье, силу, счастье человека или рассматривал его как гнилой плод; для чего же тогда он исцелял больных, давал силу слабым? Иисус для себя и для Царства Бога претендует на всю человеческую жизнь во всех ее проявлениях.
Сейчас, как нарочно, я вынужден остановиться! Дай я хоть быстренько еще раз сформулирую важную для меня тему: Иисус Христос претендует на мир, ставший совершеннолетним.
Сегодня я уже не смогу продолжить письмо, иначе оно проваляется еще неделю, а этого мне не хотелось бы. Итак, продолжение следует!
Дядя Пауль был тут, приказал немедленно вызвать меня к нему вниз и пробыл... больше 5 часов! При этом он велел откупорить 4 бутылки шампанского—уникальный случай в анналах этого дома—и был крайне великодушен и мил, чего я от него не ожидал. Он явно стремился подчеркнуть, в каких отношениях он со мной находится и чего он ждет от пугливого и педантичного М. Подобная независимость, немыслимая, наверное, в гражданской службе, мне импонирует. Кстати, вот прелестная история, которую он мне рассказал: в битве у Сент-Привата раненый прапорщик громко кричит: «Я ранен, да здравствует король!» Ему отвечает также раненый генерал фон Лёвенфельд: «Спокойно, прапорщик, здесь умирают молча!»—Я сгораю от любопытства: какое впечатление произвел здесь этот визит, разумеется, в глазах персонала.А теперь прощай, извини за прерванное письмо. Но думаю, что тебе приятнее получить такое, чем вовсе никакого. Надеюсь, что ранней осенью мы снова будем вместе.
1.7.44
В этот день 7 лет назад мы были у Мартина!
8.7.44
...Недавно я написал тебе еще одно письмо, где весьма глубокомысленно философствовал о жаре. В последние дни я испытываю ее практически, на собственной шкуре. Я сижу как в духовке, на мне лишь рубашка, вроде той, что я привез тебе как-то из Швеции, и тренировочные штаны... Но я не могу себе позволить страдать от нее по той простой причине, что представляю, какие муки терпишь от жары ты, и каким фривольным могло показаться тебе мое последнее письмо! Вот почему я хочу попытаться выжать из моих перегретых мозгов парочку идей и написать тебе. Кто знает, может, понадобится не так уж много писем, и мы свидимся раньше, чем предполагаем. Недавно я наткнулся на любопытную и прекрасную реплику у Еврипида, когда при встрече после долгой разлуки говорится: «И можем Богом встречу мы назвать».
Вот еще несколько мыслей к нашей теме. Для того, чтобы изложить библейскую сторону дела, требуется больше концентрации и ясности мысли, чем я сегодня располагаю. Подожди пару дней, когда снова станет прохладней! Я не забыл, что обещался написать тебе кое-что о нерелигиозной интерпретации библейских понятий. Но сегодня еще одно предварительное замечание.
Вытеснение Бога из мира, из публичной сферы человеческого существования вызвало стремление сохранить Его по крайней мере в сфере «личного», «приватного», в сфере «внутреннего мира». Ну, а поскольку у всякого человека где-то обязательно имеется сфера «интимного», то считается, что он наиболее уязвим именно с этой стороны. Лакейские тайны, грубо говоря, т. е. область частных дел (от молитвы до половой жизни), становятся объектом охоты со стороны современных душепопечителей. И в этом они ничуть не лучше самых мерзких бульварных газетчиков (хотя цели у них совсем иные)—ты помнишь «Истину» или «Колокол», выставлявших напоказ интимную жизнь знаменитостей; здесь шантаж социальный, финансовый, политический, там—религиозный. Прости меня, но по-другому я не мог выразиться.
С социологической точки зрения речь здесь идет о революции снизу, о бунте посредственности. Здесь происходит то же самое, что и при появлении чего-то высокого: чернь может успокоиться, лишь представив знаменитость «в ванне» или в другой щекотливой ситуации. Это ведь просто способ подлого самоудовлетворения— убеждаться, что у каждого человека свои слабости и недостатки. Когда я имел дело с отбросами общества — «outcasts», «париями»,— мне всегда бросалось в глаза, что для них любая оценка других людей исходит из недоверия. Любой, даже абсолютно самоотверженный поступок человека с хорошей репутацией с самого начала становится подозрительным. Надо сказать, однако, что эти «парии» встречаются во всех социальных слоях. Они и в цветниках вынюхивают только навоз» которым удобряют почву. Чем удаленней от всех социальных структур живет человек, тем легче формируется у него такая позиция.«Отщепенство» встречается также и среди клира, мы называем это «поповством»— выслеживание грехов человечества, чтобы подловить его. Как будто по-настоящему познакомиться с каким-нибудь великолепным домом можно, только отыскав паутину в подвале; как будто оценить по достоинству стоящую пьесу можно, только подсмотрев, как ведут себя артисты за кулисами. В том же направлении развивается мода в литературе, где за последние 50 лет изображение героев романа считается правдивым только тогда, когда они показываются в постели; то же относится к фильмам, непременной принадлежностью которых считаются сцены с раздеванием. Сокровенное, чистое, целомудренное с самого начала объявляется фальшивым, неестественным, порочным, что только выдает собственную порочность хулителей. Недоверие и подозрительность как доминанты поведения есть не что иное, как бунт посредственности.С теологической точки зрения здесь допускается двойная ошибка: во-первых, считается, что к человеку только в том случае можно подходить как к грешнику, если выслежены его слабости или подлые делишки; во-вторых, полагают, будто сущность человека заключена в самых укромных, интимнейших тайниках его души, это и называют «глубиной души»; и вот в этих-то человеческих тайниках и должен владычествовать Бог?
По поводу первой ошибки нужно сказать, что человек хотя и грешен, но из-за этого он вовсе не обязательно должен быть подл. Возьмем банальный пример: оттого ли Гёте или Наполеон грешники, что они не всегда хранили супружескую верность? Речь идет о подлинных грехах, а не грехах по человеческой слабости. Нет никакой нужды в выслеживании. В Библии этого не встретишь. Истинные грехи: у гения—превозношение (hy-bris); у крестьянина—нарушение традиционного уклада (разве декалог—крестьянская этика?); у горожанина—боязнь ответственности. Так ли это?
Относительно второй ошибки: Библия не знает нашего различения на внешнее и внутреннее. Да и для чего ей это? Речь там всегда идет об uvOpcoiioi; Te^eioq, целостном человеке, даже в тех местах, где декалог переводится в сферу «глубин души» (как, например, в Нагорной проповеди). То, что добрые «намерения» могут замещать само добро, совсем не характерно для Библии. Так называемые «тайники души» были открыты только в эпоху Возрождения (вероятно, Петраркой). «Сердце» в библейском понимании—это не «глубины души», а весь человек, такой, каким он стоит перед Богом. Но дело все в том, что человек живет, исходя как из «внешнего», так и из «внутреннего», а потому попытка понять его на основе «тайников души» только вводит в заблуждение.Я веду все к тому, что Бога не следует протаскивать контрабандой в укромный уголок души, а нужно просто признать совершеннолетие мира и человека; что нельзя «охаивать» человека за его мирскую сущность, а сопоставлять его с Богом нужно лишь в том, в чем он действительно силен; что следует отказаться от всех поповских уловок и не усматривать предтеч Бога в психотерапевтах или философах-экзистенциалистах. Для Слова Божия назойливость всех этих людей чересчур неблагородна, чтобы оно могло сочетаться с ними. Оно не сочетается с бунтом недоверия, бунтом низов. Оно правит.
Вот так, а теперь самое время было бы поговорить о мирской интерпретации библейских понятий. Но стоит такая жара!
Если ты сам хочешь послать ... выдержки из моих писем, то, разумеется, вправе это сделать. Я, со своей стороны, не стал бы этого делать, потому что только в письмах к тебе отваживаюсь говорить о еще не выясненном для меня, надеясь обрести ясность. Но все в твоей воле.
Нам вскоре придется много вспоминать о нашей совместной поездке летом 1940 года, о моих последних проповедях! Кончаю! Думаю, что мы вскоре увидимся!
16.7.44
Вчера я услышал, что ты опять перебрался на новое место. Надеюсь скоро узнать, как ты устроился. Во всяком случае, историческое окружение очаровательное. Еще десять лет назад мы едва бы поняли, что символические знаки— епископский посох и кольцо, усвоенные как императором, так и папой, могут привести к мировым конфликтам. Не были ли они в действительности адиафорами? То, что они ими не были, нам суждено было узнать снова на своем опыте! Понимать ли покаянный путь Генриха IV как искренний или дипломатический поступок, все равно, образ Генриха в 1077 году незабываем, он не изгладится в сознании европейских народов. Этот образ действует сильнее, чем Вормсский конкордат 1122 года, который формально решил дело в том же смысле. Нас учили в школе, что все эти великие схватки были несчастьем для Европы. В действительности же в них истоки духовной свободы, сделавшие Европу великой.
О себе мне почти и нечего сказать. Недавно слышал по радио, уже не в первый раз, сцены из опер Карла Орфа («Кармина Бурана» и др.); их свежесть, ясность и радостное настроение пришлись мне очень по душе. У него есть иоркестровые обработки Монтеверди. Знаешь ли ты об этом? Затем передали Кончерто гроссо Генделя; слушая медленную часть (типа лярго), я в который раз был поражен его способностью утешения, непосредственного и всеобъемлющего, на которое мы бы не отважились. Я считаю, что Гендель гораздо больше думал о слушателе и о воздействии музыки на него, чем Бах. Поэтому-то он иногда бывает несколько параден. Гендель своей музыкой хочет добиться чего-то, Бах же нет. Согласен?
С большим интересом читаю «Записки из Мертвого дома» и нахожусь под впечатлением от того сострадания—абсолютно без всякой примеси морали,—с которым вольные относятся к обитателям острога. Может быть, отсутствие морали, ведущее начало от религиозности, является существенной чертой этого народа и объясняет современные события? В остальном я пишу, сочиняю стихи, пока хватает сил. Я, кажется, уже рассказывал тебе, что вечерами я теперь часто, как раньше с тобой, сажусь за работу. Разумеется, это очень важно для меня и приятно. Но я уже исчерпал все, что мог бы сообщить тебе о своей жизни... Очень рад, что К., по-видимому, в хорошем настроении. Он был долгое время в таком подавленном состоянии. Думаю, все, что его так гнетет, скоро снова наладится; желаю ему и всей семье этого...Если у тебя в ближайшее время возникнет проблема составления проповеди, то я для начала взял бы такие тексты, как Пс 61,2; 118,94а; 41,6; Иер 31,3; Ис 41,10; 43,1; Мф 28,206 и ограничился бы некоторыми важными и простыми мыслями. Необходимо какое-то время прожить в общине, чтобы понять, «какой облик принял в ней Христос» (Гал 4,19), и это особенно относится к такой общине, какая у тебя будет...Вот еще несколько заметок к нашей теме. Я очень постепенно подбираюсь к выработке нерелигиозной интерпретации библейских понятий. И тут я скорее вижу задачу, чем возможности решения.В историческом плане: к автономии мира ведет единое магистральное направление развития. В теологии на самодостаточность разума для религиозного познания впервые указывает Герберт Чербери. В морали: Монтень, Бодэн, поставившие на место заповедей житейские нормы. В политике: Макиавелли, отделивший политику от всеобщей морали и обосновавший .учение о государственной мудрости. Позднее, совсем по-другому в смысле содержания, но с той же ориентацией на автономию человеческого общества, Г. Греции выдвигает естественное право в качестве международного, которое сохраняет свою законность, «etsi deus non daretur»—«даже если Бога и не было бы». И, наконец, философский итог: с одной стороны, деизм Декарта—мир как механизм, функционирующий без вмешательства Бога, самостоятельно; с другой—пантеизм Спинозы: Бог есть природа. Кант в принципе деист, Фихте и Гегель—пантеисты. Везде цель мышления сводится к автономии человека и мира.(В естествознании все начинается, очевидно, с Николая Кузанского и Джордано Бруно, с их «еретического» учения о бесконечности мира. Античный космос конечен, как и средневековый тварный мир. Бесконечный мир—как бы его ни мыслили—покоится в себе самом, «etsi deus поп daretur». Современная физика, однако, подвергает сомнению бесконечность мира, не впадая при этом в прежние представления о конечности.)Бог как моральная, политическая, естественнонаучная рабочая гипотеза упразднен, преодолен; точно так же как и в смысле философской и религиозной гипотезы (Фейербах!). Интеллектуальная честность требует отказа от этой рабочей гипотезы или исключения ее в максимально широких пределах. Набожного ученого-естественника, медика и т. п. нужно отнести к двуполым существам.
«Но где же Бог еще сохраняет свои домены?»—вопрошают пугливые натуры и, не находя ответа, проклинают все развитие, поставившее их в такую ситуацию. Я уже писал тебе о разных запасных выходах из помещения, ставшего слишком тесным. Стоит добавить еще сальто-мортале назад, в Средневековье. Но принцип Средневековья—гетерономия в форме клерикализма. А потому возврат к этому может быть только актом отчаяния, который возможен лишь за счет интеллектуальной честности. Это та самая мечта, о которой поется в песенке: «О, знать бы мне возвратный путь, далекий путь в край детства». Пути этого нет—во всяком случае, через своевольное отречение от внутренней честности; он возможен только в смысле Мф 18,3, т.е. через покаяние, что значит—через предельную честность.И мы не можем быть честными, не сознавая, что мы должны жить в мире, «etsi deus non dare-tur». А как раз это мы познаем—перед Богом! Сам Бог принуждает нас к такому выводу. Так наше совершеннолетие ведет нас к подлинному познанию нашей ситуации перед Богом. Бог дает нам понять, что мы должны жить, справляясь с жизнью без Бога. Бог, который с нами, есть Бог, который хочет, чтобы мы жили без рабочей гипотезы о Боге, есть Бог, перед которым мы постоянно пребываем. Перед Богом и с Богом мы живем без Бога. Бог дозволяет вытеснить себя из мира на крест. Бог бессилен и слаб в мире, но именно в этом и только через это Он с нами и помогает нам. Из Мф 8, 17 совершенно явно следует, что Христос помогает не благодаря своему всесилию, но благодаря своей слабости, своим страданиям!В этом кроется коренное отличие от всех религий. Религиозность указывает человеку в его бедах на могущество Бога в мире. Бог—deus ex machina. Библия же указывает человеку на бессилие, на страдание Бога; помочь может лишь страждущий Бог. В этой связи можно сказать, что описанное развитие к совершеннолетию мира, которое помогло разделаться с ложным представлением о Боге, расчищает для взора библейского Бога, своим бессилием завоевывающего власть и пространство в мире. Здесь, пожалуй, нужно пускать в ход «мирскую интерпретацию».
Кто я?
Кто я? Мне часто говорят, что я выхожу из своей камеры—
покоен, радостен, тверд,—
как из замка выходит властитель.
Кто я? Мне часто говорят, что я беседую со стерегущими меня свободно, дружески, ясно, будто мой долг—повелевать.
Кто я? Мне также говорят, что несчастливые дни я встречаю равнодушно и с гордой усмешкой, как тот, кто к победам привык.
В самом ли деле таков я, как обо мне толкуют другие?
Или же я лишь то, что сам о себе я знаю?
Беспокойный, снедаем тоской, хворый, будто птица в неволе, жадно хватая воздух, словно сдавлено горло, тоскуя по краскам, цветам, посвисту птиц, сгорая от жажды по доброму слову, по близости человеческой, содрогаясь от гнева перед произволом, ничтожной обидой, лишаясь покоя в ожиданье великих свершений, в бессилье тревожась о друзьях в беспредельный дали, опустошенный, без сил для молитвы, для мысли, для дела, в изнуренье готовый со всем распрощаться?
Кто я? Тот или этот?
Что же, сегодня я этот, а завтра я тот?
Или то и другое я кряду? Пред людьми—лицемер, пред собою самим—малодушный нытик, достойный
презренья? Или остаток во мне подобен разбитому войску, в беспорядке бегущему от уже добытой победы?
Кто я? Не насмешка ли это, в одиночестве мучиться, себя вопрошая? Кто бы я ни был, Ты знаешь меня, ведь Твой я, о Боже!